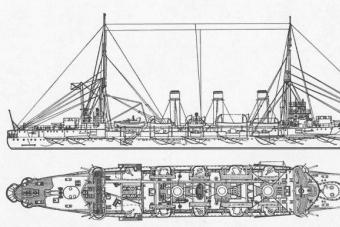Воспитывался при дворе, с юности замешан был в разные интриги, враждовал с герцогом де Ришелье и только после смерти последнего стал играть видную роль при дворе. Принимал активное участие в движении Фронды и был тяжело ранен. Занимал блестящее положение в обществе, имел множество светских интриг и пережил ряд личных разочарований, оставивших неизгладимый след на его творчестве. В течение долгих лет в его личной жизни играла большую роль герцогиня де Лонгвиль, из любви к которой он не раз отказывался от своих честолюбивых побуждений. Разочарованный в своей привязанности, Ларошфуко стал мрачным мизантропом; единственным его утешением была дружба с мадам де Лафайет, которой он оставался верным до самой смерти. Последние годы Ларошфуко омрачены были разными невзгодами: смертью сына, болезнями.
Литературное наследие
Максимы
Результатом обширного жизненного опыта Ларошфуко явились его «Максимы» (Maximes) - сборник афоризмов, составляющих цельный кодекс житейской философии. Первое издание «Максим» вышло анонимно в 1665 г. Пять изданий, всё более увеличиваемых автором, появились ещё при жизни Ларошфуко. Ларошфуко крайне пессимистически смотрит на природу человека. Основной афоризм Ларошфуко: «Наши добродетели - это чаще всего искусно переряженные пороки.». В основе всех человеческих поступков он усматривает самолюбие, тщеславие и преследование личных интересов. Изображая эти пороки и рисуя портреты честолюбцев и эгоистов, Ларошфуко имеет преимущественно в виду людей своего круга, общий тон его афоризмов - крайне ядовитый. Особенно удаются ему жестокие определения, меткие и острые как стрела, например изречение: «Все мы обладаем достаточной долей христианского терпения, чтобы переносить страдания… других людей». Очень высоко чисто литературное значение «Максим».
Мемуары
Не менее важным трудом Ларошфуко явились его «Мемуары» (Mémoires sur la régence d’Anne d’Autriche), первое издание - 1662 г. Ценнейший источник о временах Фронды.
Историю о подвесках королевы Анны Австрийской, лёгшую в основу романа «Три мушкетера», Александр Дюма взял из «Мемуаров» Франсуа де Ларошфуко. В романе «Двадцать лет спустя» Ларошфуко выведен под своим прежним титулом - принц де Марсийак, как человек, пытающийся убить Арамиса, также пользующегося благосклонностью герцогини де Лонгвиль. Согласно Дюма, даже отцом ребёнка герцогини был не Ларошфуко (как настойчиво утверждали слухи в реальности), а именно Арамис.
Семья и дети
Родители: Франсуа V (1588-1650), герцог де Ларошфуко и Габриелла дю Плесси-Лианкур (ум. 1672).
Жена: (с 20 января 1628, Миребо) Андре де Вивонн (ум. 1670), дочь Андре де Вивонн, сеньора де ла Беродье и Марии Антуанетты де Ломени. Имели 8 детей:
Франсуа VII (1634-1714), герцог де Ларошфуко
Шарль (1635-1691), рыцарь Мальтийского ордена
Мария Екатерина (1637-1711), известна как Мадмуазель де Ларошфуко
Генриетта (1638-1721), известна как Мадмуазель де Марсийак
Франсуаза (1641-1708), известна как Мадмуазель д"Анвиль
Анри Ахилл (1642-1698), аббат де Ла Шез-Дье
Жан Батист (1646-1672), известен как Шевалье де Марсийак
Александр (1665-1721), известен как Аббат де Вертейль
Внебрачная связь: Анна Женевьева де Бурбон-Конде (1619-1679), герцогиня де Лонгвиль, имели сына:
Шарль Парис де Лонгвиль (1649-1672), герцог де Лонгвиль, был одним из кандидатов на польский престол
План
Введение
1 Биография
2 Литературное наследие
2.1 Максимы
2.2 Мемуары
3 Семья и дети
Список литературы
Введение
Франсуа́ VI де Ларошфуко́ (фр. François VI, duc de La Rochefoucauld , 15 сентября 1613, Париж - 17 марта 1680, Париж), герцог де Ларошфуко - знаменитый французский писатель и философ-моралист, принадлежавший к южнофранцузскому роду Ларошфуко. Деятель войн Фронды. При жизни отца (до 1650) носил титул принц де Марсийак. Правнук того Франсуа де Ларошфуко, который был убит в ночь св. Варфоломея.
1. Биография
Воспитывался при дворе, с юности замешан был в разные интриги, враждовал с герцогом де Ришелье и только после смерти последнего стал играть видную роль при дворе. Принимал активное участие в движении Фронды и был тяжело ранен. Занимал блестящее положение в обществе, имел множество светских интриг и пережил ряд личных разочарований, оставивших неизгладимый след на его творчестве. В течение долгих лет в его личной жизни играла большую роль герцогиня де Лонгвиль, из любви к которой он не раз отказывался от своих честолюбивых побуждений. Разочарованный в своей привязанности, Ларошфуко стал мрачным мизантропом; единственным его утешением была дружба с мадам де Лафайет, которой он оставался верным до самой смерти. Последние годы Ларошфуко омрачены были разными невзгодами: смертью сына, болезнями.
2. Литературное наследие
2.1. Максимы
Результатом обширного жизненного опыта Ларошфуко явились его «Максимы» (Maximes ) - сборник афоризмов, составляющих цельный кодекс житейской философии. Первое издание «Максим» вышло анонимно в 1665 г. Пять изданий, всё более увеличиваемых автором, появились ещё при жизни Ларошфуко. Ларошфуко крайне пессимистически смотрит на природу человека. Основной афоризм Ларошфуко: «Наши добродетели - это чаще всего искусно переряженные пороки.». В основе всех человеческих поступков он усматривает самолюбие, тщеславие и преследование личных интересов. Изображая эти пороки и рисуя портреты честолюбцев и эгоистов, Ларошфуко имеет преимущественно в виду людей своего круга, общий тон его афоризмов - крайне ядовитый. Особенно удаются ему жестокие определения, меткие и острые как стрела, например изречение: «Все мы обладаем достаточной долей христианского терпения, чтобы переносить страдания… других людей». Очень высоко чисто литературное значение «Максим».
2.2. Мемуары
Не менее важным трудом Ларошфуко явились его «Мемуары» (Mémoires sur la régence d’Anne d’Autriche ), первое издание - 1662 г. Ценнейший источник о временах Фронды. Ларошфуко подробно описывает политические и военные события, о себе он говорит в третьем лице.
Историю о подвесках королевы Анны Австрийской, лёгшую в основу романа «Три мушкетера», Александр Дюма взял из «Мемуаров» Франсуа де Ларошфуко. В романе «Двадцать лет спустя» Ларошфуко выведен под своим прежним титулом - принц де Марсийак, как человек, пытающийся убить Арамиса, также пользующегося благосклонностью герцогини де Лонгвиль. Согласно Дюма, даже отцом ребёнка герцогини был не Ларошфуко (как настойчиво утверждали слухи в реальности), а именно Арамис.
3. Семья и дети
· Родители: Франсуа V (1588-1650), герцог де Ларошфуко и Габриелла дю Плесси-Лианкур (ум. 1672).
· Жена: (с 20 января 1628, Миребо) Андре де Вивонн (ум. 1670), дочь Андре де Вивонн, сеньора де ла Беродье и Марии Антуанетты де Ломени. Имели 8 детей:
1. Франсуа VII (1634-1714), герцог де Ларошфуко
2. Шарль (1635-1691), рыцарь Мальтийского ордена
3. Мария Екатерина (1637-1711), известна как Мадмуазель де Ларошфуко
4. Генриетта (1638-1721), известна как Мадмуазель де Марсийак
5. Франсуаза (1641-1708), известна как Мадмуазель д’Анвиль
6. Анри Ахилл (1642-1698), аббат де Ла Шез-Дье
7. Жан Батист (1646-1672), известен как Шевалье де Марсийак
8. Александр (1665-1721), известен как Аббат де Вертейль
· Внебрачная связь: Анна Женевьева де Бурбон-Конде (1619-1679), герцогиня де Лонгвиль, имели сына:
1. Шарль Парис де Лонгвиль (1649-1672), герцог де Лонгвиль, был одним из кандидатов на польский престол
Список литературы:
1. Официально считался законным сыном мужа Анны Женевьевы де Бурбон-Конде, герцога Генриха II де Лонгвиля, который признал его своим.
Умный и циничный французский герцог - так охарактеризовал Ларошфуко Сомерсет Моэм. Изысканный стиль, меткость, лаконичность и не бесспорная для большинства читателей суровость в оценках сделали «Максимы» Ларошфуко, пожалуй, наиболее известными и популярными среди сборников афоризмов. Их автор вошел в историю как тонкий наблюдатель, явно разочарованный в жизни - хотя его биография вызывает ассоциации с героями романов Александра Дюма. Эта романтическая и авантюрная его ипостась ныне почти забыта. Но большинство исследователей сходятся на том, что основания мрачной философии герцога кроются именно в его сложной, полной приключений, непонимания и обманутых надежд судьбе.
Древо рода
Ларошфуко - древняя аристократическая фамилия. Этот род ведет свое начало с XI века, от Фуко I сеньора де Лароша, чьи потомки до сих пор живут в фамильном замке Ларошфуко недалеко от Ангулема. Старшие сыновья в этом роду издревле служили советниками французских королей. Многие носившие эту фамилию вошли в историю. Франсуа I Ларошфуко был крестным французского короля Франциска I. Франсуа III - одним из лидеров гугенотов. Франсуа XII стал учредителем Французского сберегательного банка и другом великого американского ученого-естествоиспытателя Бенджамина Франклина.
Наш герой был шестым в роду Ларошфуко. Франсуа VI герцог де Ларошфуко, принц Марсийяк, маркиз де Гершевиль, граф де Ларошгийон, барон де Вертей, Монтиньяк и Каюзак родился 15 сентября 1613 года в Париже. Его отец, Франсуа V граф де Ларошфуко, главный гардеробмейстер королевы Марии Медичи, был женат на не менее именитой Габриэли дю Плесси-Лианкур. Вскоре после рождения Франсуа мать увезла его в имение Вертей в Ангумуа, где он и провел свое детство. Отец же остался делать карьеру при дворе и, как выяснилось, не напрасно. Вскоре королева пожаловала ему пост генерал-лейтенанта провинции Пуату и 45 тысяч ливров дохода. Получив эту должность, он стал усердно бороться с протестантами. Тем более усердно, что его отец и дед не были католиками. Франсуа III, один из руководителей гугенотов, погиб в Варфоломеевскую ночь, а Франсуа IV был убит членами Католической лиги в 1591-м. Франсуа V же принял католичество, и в 1620 году за успешную борьбу с протестантами ему был пожалован титул герцога. Правда, до того времени, пока парламент не утвердил патент, он был так называемым «временным герцогом» - герцогом по королевской грамоте.
Но и тогда герцогское великолепие уже требовало больших расходов. Денег он тратил так много, что его жене вскоре пришлось потребовать раздельной собственности.
Воспитанием детей - у Франсуа было четыре брата и семь сестер - занималась мать, герцог же в дни своих кратких приездов посвящал их в тайны придворной жизни. Старшему сыну он с младых ногтей внушал чувство дворянской чести, а также феодальной верности дому Конде. Вассальная связь Ларошфуко с этой ветвью королевского дома сохранилась с тех времен, когда и те и другие были гугенотами.
Образование Марсийяка, обычное для дворянина того времени, включало в себя грамматику, математику, латынь, танцы, фехтование, геральдику, этикет и множество других дисциплин. Юный Марсийяк относился к учебе, как и большинство мальчишек, но зато был крайне неравнодушен к романам. Начало XVII века было временем огромной популярности этого литературного жанра - рыцарские, авантюрные, пасторальные романы выходили во множестве. Их герои - то доблестные воины, то безупречные поклонники - служили тогда идеалами для знатных молодых людей.
Когда Франсуа исполнилось четырнадцать лет, отец принял решение женить его на Андре де Вивонн - второй дочери и наследнице (ее сестра рано умерла) бывшего главного сокольничего Андре де Вивонна.
Опальный полковник
В том же году Франсуа получил чин полковника в Овернском полку и в 1629 году принял участие в Итальянских походах - военных операциях на севере Италии, которые Франция проводила в рамках Тридцатилетней войны. Вернувшись в Париж в 1631 году, он нашел двор сильно изменившимся. После «Дня одураченных» в ноябре 1630 года, когда королева-мать Мария Медичи, требовавшая отставки Ришелье и уже праздновавшая победу, вскоре была вынуждена бежать, многие ее приверженцы, в том числе и герцог де Ларошфуко, разделили с ней опалу. Герцог был отстранен от управления провинцией Пуату и сослан в свой дом около Блуа. Самому же Франсуа, который как старший сын герцога носил титул принца Марсийяка, было разрешено остаться при дворе. Многие современники упрекали его в заносчивости, поскольку титул принца во Франции полагался лишь принцам крови и иностранным принцам.
В Париже Марсийяк стал посещать модный салон мадам Рамбуйе. В ее знаменитой «Голубой гостиной» собирались влиятельные политики, писатели и поэты, аристократы. Туда заглядывал Ришелье, приходили Поль де Гонди, будущий кардинал де Рец, и будущий маршал Франции граф де Гиш, принцесса Конде со своими детьми - герцогом Энгиенским, который вскоре станет Великим Конде, герцогиней де Лонгвиль, тогда еще мадемуазель де Бурбон, и принцем Конти, и многие другие. Салон был центром галантной культуры - здесь обсуждались все новинки литературы и велись беседы о природе любви. Быть завсегдатаем этого салона означало принадлежать к самому изысканному обществу. Здесь витал дух любимых Марсийяком романов, здесь стремились подражать их героям.
Унаследовав от отца ненависть к кардиналу Ришелье, Марсийяк стал служить Анне Австрийской. Прекрасная, но несчастная королева как нельзя лучше соответствовала образу из романа. Марсийяк стал ее верным рыцарем, равно как и другом ее фрейлины мадемуазель Д"Отфор и знаменитой герцогини де Шеврез.
Весной 1635 года принц по собственному почину отправился во Фландрию сражаться с испанцами. А по возвращении узнал, что ему и еще нескольким офицерам не позволено остаться при дворе. В качестве причины указывались их неодобрительные отзывы о французской военной кампании 1635 года. Год спустя Испания напала на Францию и Марсийяк вновь отправился в армию.
После успешного окончания кампании он ожидал, что теперь ему будет позволено вернуться в Париж, но его надеждам не суждено было оправдаться: «...Я был вынужден уехать к отцу, жившему у себя в поместье и все еще находившемуся в строгой опале». Но, невзирая на запрет появляться в столице, он перед отъездом в имение тайно нанес прощальный визит королеве. Анна Австрийская, которой король запретил даже переписываться с мадам де Шеврез, передала ему письмо для опальной герцогини, которое Марсийяк отвез в Турень, место ее ссылки.
Наконец, в 1637 году отцу и сыну разрешили вернуться в Париж. Парламент утвердил герцогский патент, и они должны были прибыть для завершения всех формальностей и принесения присяги. Их возвращение совпало с разгаром скандала в королевской семье. В августе этого года в монастыре Валь-де-Грас было найдено оставленное королевой письмо к брату- королю Испании, с которым Людовик XIII все еще вел войну. Мать-настоятельница под угрозой отлучения от церкви рассказала так много об отношениях королевы с враждебным испанским двором, что король решился на неслыханную меру - Анну Австрийскую подвергли обыску и допросу. Она была обвинена в государственной измене и тайной переписке с испанским послом маркизом Мирабелем. Король даже собирался воспользоваться этой ситуацией, чтобы развестись со своей бездетной супругой (будущий Людовик XIV родился спустя год после этих событий в сентябре 1638 года) и заточить ее в Гавре.
Дело зашло так далеко, что возникла мысль о побеге. По словам Марсийяка, все было уже готово к тому, чтобы он тайно увез королеву и мадемуазель Д"Отфор в Брюссель. Но обвинения были сняты и столь скандальный побег не состоялся. Тогда принц вызвался оповестить обо всем происшедшем герцогиню де Шеврез. Однако за ним следили, поэтому родные категорически запретили ему видеться с ней. Чтобы выйти из положения, Марсийяк попросил англичанина графа Крафта, их общего знакомого, передать герцогине, чтобы она отправила к принцу верного человека, которого можно было бы обо всем оповестить. Дело шло к счастливому завершению, и Марсийяк отбыл в имение к жене.
Между мадемуазель Д`Отфор и герцогиней де Шеврез существовала договоренность о срочной системе оповещения. Ларошфуко упоминает о двух часословах - в зеленом и красном переплетах. Один из них означал, что дела идут к лучшему, другой был сигналом опасности. Неизвестно, кто перепутал символику, но, получив часослов, герцогиня де Шеврез, посчитав, что все пропало, решилась бежать в Испанию и в спешке покинула страну. Проезжая мимо Вертея, родового поместья Ларошфуко, она попросила принца о помощи. Но он, уже во второй раз прислушавшись к голосу благоразумия, ограничился лишь тем, что дал ей свежих лошадей и людей, сопроводивших ее до границы. Но когда об этом стало известно в Париже, Марсийяк был вызван на допрос и вскоре препровожден в тюрьму. В Бастилии благодаря ходатайствам родителей и друзей он пробыл всего неделю. А после освобождения он вынужден был вернуться в Вертей. В ссылке Марсийяк много часов провел за трудами историков и философов, пополняя свое образование.
В 1639 году началась война и принцу было дозволено отправиться в армию. Он отличился в нескольких сражениях, и по окончании кампании Ришелье даже предложил ему чин генерал-майора, посулив блестящее будущее у себя на службе. Но он по просьбе королевы отказался от всех сулимых перспектив и возвратился в свое имение.
Придворные игры
В 1642 году началась подготовка заговора против Ришелье, организованного фаворитом Людовика XIII Сен-Маром. Он вел переговоры с Испанией об оказании помощи в свержении кардинала и заключении мира. В подробности заговора были посвящены Анна Австрийская и брат короля, Гастон Орлеанский. Марсийяк не был в числе его участников, но де Ту, один из близких друзей Сен-Мара, обратился к нему за помощью от имени королевы. Принц устоял. Заговор провалился, а его главные участники - Сен-Мар и де Ту - были казнены.
4 декабря 1642 года умер кардинал Ришелье, вслед за ним в мир иной последовал и Людовик XIII. Узнав об этом, Марсийяк, как и множество других опальных дворян, отправился в Париж. Возвратилась ко двору и мадемуазель Д"Отфор, из Испании приехала герцогиня де Шеврез. Теперь все они рассчитывали на особую милость королевы. Однако очень скоро обнаружили возле Анны Австрийской новоявленного фаворита - кардинала Мазарини, позиции которого, вопреки ожиданиям многих, оказались достаточно сильными.
До глубины души уязвленные этим, герцогиня де Шеврез, герцог Бофор и другие аристократы, а также некоторые парламентарии и прелаты объединились с целью свержения Мазарини, составив новый, так называемый «заговор Высокомерных».
Ларошфуко оказался в довольно сложном положении: с одной стороны, он должен был сохранять верность королеве, с другой - ему совершенно не хотелось ссориться с герцогиней. Заговор был быстро и легко раскрыт, но, хотя принц и посещал иногда собрания «Высокомерных», особой опалы он не испытал. Из-за этого некоторое время даже ходили слухи, что он якобы сам поспособствовал раскрытию заговора. Герцогиня де Шеврез в очередной раз отправилась в ссылку, а герцог де Бофор провел пять лет в тюрьме (его побег из Венсеннского замка, действительно имевший место, очень красочно, хотя и не вполне верно, описал Дюма-отец в романе «Двадцать лет спустя»).
Мазарини пообещал Марсийяку чин бригадного генерала в случае успешной службы, и в 1646 году он отправился в армию под начальство герцога Энгиенского - будущего принца Конде, уже одержавшего свою знаменитую победу при Рокруа. Однако Марсийяк очень скоро был тяжело ранен тремя выстрелами из мушкета и отправлен в Вертей. Потеряв возможность отличиться на войне, он после выздоровления сосредоточил свои усилия на том, чтобы добиться губернаторства Пуату, которое было в свое время отнято у его отца. В должность губернатора он вступил в апреле 1647 года, заплатив за нее значительную сумму денег.
Опыт разочарований
Годы напролет Марсийяк тщетно ожидал королевской милости и признательности за свою преданность. «Мы обещаем соразмерно нашим расчетам, а выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям», - напишет он позднее в своих «Максимах»... Постепенно он все больше сближался с домом Конде. Этому способствовали не только связи отца, но и связь принца с герцогиней де Лонгвиль, сестрой герцога Энгиенского, которая началась еще в 1646 году, во время военной кампании. Эта белокурая, голубоглазая принцесса, одна из первых красавиц при дворе, гордилась своей незапятнанной репутацией, хотя была причиной многих дуэлей и нескольких скандалов при дворе. Один из таких скандалов между ней и любовницей ее мужа, мадам де Монбазон, Марсийяк помогал улаживать перед Фрондой. Сам же, желая добиться ее расположения, был вынужден соперничать с одним из своих друзей - графом Миоссаном, который, видя успех принца, сделался одним из заклятых его врагов.
Опираясь на поддержку Конде, Марсийяк стал претендовать на получение «луврских привилегий»: права въезжать в Лувр в карете и «табурета» для своей жены - то есть права сидеть в присутствии королевы. Формально на эти привилегии он не имел никаких прав, поскольку полагались они лишь герцогам и принцам крови, но фактически монарх такие права мог пожаловать. По этой причине многие опять сочли его заносчивым и высокомерным - ведь он хотел стать герцогом еще при жизни отца.
Узнав же, что при «раздаче табуретов» его все-таки обошли, Марсийяк бросил все и отправился в столицу. В то время уже началась Фронда - широкое общественно-политическое движение, во главе которого стояли аристократы и Парижский парламент. Историки до сих пор затрудняются дать ему точное определение.
Склонный поначалу поддержать королеву и Мазарини, Марсийяк отныне встал на сторону фрондеров. Вскоре по прибытии в Париж он выступил в парламенте с речью, которая называлась «Апология принца Марсийяка», где высказал свои личные претензии и причины, побудившие его присоединиться к восставшим. В течение всей войны он поддерживал герцогиню де Лонгвиль, а затем ее брата, принца Конде. Узнав в 1652 году, что герцогиня завела себе нового любовника, герцога Немура, он порвал с ней. С тех пор их отношения стали более чем прохладными, но принц тем не менее остался верным сторонником Великого Конде.
С началом беспорядков королева-мать и Мазарини покинули столицу и начали осаду Парижа, результатом которой стал подписанный в марте 1649 года мир, не удовлетворивший фрондеров, ибо Мазарини остался у власти.
Новый этап противостояния начался с ареста принца Конде. Но после освобождения Конде порвал с другими вождями Фронды и дальнейшую борьбу вел уже в основном в провинции. Декларацией от 8 октября 1651 года он и его сторонники, включая герцога Ларошфуко (он стал носить этот долгожданный титул со смерти отца в 1651 году), объявлялись государственными изменниками. В апреле 1652 года принц Конде со значительным войском подошел к Парижу. В битве у парижского предместья Сент-Антуан 2 июля 1652 года Ларошфуко был серьезно ранен в лицо и на время потерял зрение. Война для него закончилась. Ему потом пришлось долго лечиться, на одном глазу нужно было удалять катаракту. Зрение немного восстановилось лишь к концу года.
После фронды
В сентябре король пообещал амнистию всем, кто сложит оружие. Герцог, слепой и прикованный к постели приступами подагры, отказался сделать это. И вскоре он вновь был официально объявлен виновным в государственной измене с лишением всех званий и конфискацией имущест-
Ему также было приказано покинуть Париж. В свои владения ему было разрешено вернуться лишь по окончании Фронды, в конце 1653 года.
Дела пришли в полный упадок, родовой замок Вертей был разрушен королевскими войсками по приказу Мазарини. Герцог поселился в Ангумуа, но иногда наведывался в Париж к своему дяде - герцогу Лианкуру, который, судя по нотариальным актам, отдал ему для проживания в столице Отель Лианкур. Ларошфуко проводил теперь много времени с детьми. У него было четыре сына и три дочери. В апреле 1655 года родился еще один сын. Жена преданно ухаживала за Ларошфуко и поддерживала его. Именно в то время он решает писать мемуары, дабы поведать подробности тех событий, которым он был свидетелем.
В 1656 году Ларошфуко разрешили окончательно вернуться в Париж. И он поехал туда, чтобы устроить брак старшего сына. При дворе он бывал редко - король не выказывал ему своего благоволения, а посему большую часть времени он проводил в Вертее, причиной тому было еще и существенно ослабевшее здоровье герцога.
Дела немного наладились в 1659 году, когда он получил пенсию в 8 тысяч ливров в качестве компенсации за понесенные во время Фронды убытки. В том же году состоялась свадьба его старшего сына, Франсуа VII, принца Марсийя-ка, с кузиной, Жанной-Шарлоттой, богатой наследницей дома Лианкуров.
С этого времени Ларошфуко поселяется с женой, дочерьми и младшими сыновьями в Сен-Жермене, тогда еще пригороде Парижа. Он окончательно помирился с двором и даже получил от короля орден Святого Духа. Но этот орден не был свидетельством королевского фавора - Людовик XIV покровительствовал лишь его сыну, так до конца и не простив мятежного герцога.
В тот период во многих вопросах, и прежде всего финансовых, Ларошфуко много помогал его друг и бывший секретарь Гурвиль, преуспевший впоследствии на службе и с юр интенданта Фуке, и принца Конде. Спустя несколько лет Гурвиль женился на старшей дочери Ларошфуко - Марии-Катерине. Этот мезальянс поначалу породил множество сплетен при дворе, а затем столь неравный брак стали обходить молчанием. Многие историки обвиняли Ларошфуко в том, что он «продал» свою дочь за финансовую поддержку бывшего слуги. Но вот согласно письмам самого герцога Гурвиль в самом деле был его близким другом, и этот брак вполне мог быть следствием их дружбы.
Рождение моралиста
Ларошфуко больше не интересовала карьера. Все придворные привилегии, которых герцог столь упорно добивался в молодости, он в 1671 году передал своему старшему сыну, принцу Марсийяку, который делал успешную карьеру при дворе. Гораздо чаще Ларошфуко посещал модные литературные салоны - мадемуазель де Монпансье, мадам де Сабле, мадемуазель де Скюдери и мадам дю Плесси-Генего. Он был желанным гостем в любом салоне и слыл одним из образованнейших людей своего времени. Король даже подумывал о том, чтобы сделать его гувернером дофина, но так и не решился поручить воспитание сына бывшему фрондеру.
В одних салонах велись серьезные беседы, и Ларошфуко, хорошо знавший Аристотеля, Сенеку, Эпиктета, Цицерона, читавший Монтеня, Шаррона, Декарта, Паскаля, принимал в них активное участие. У мадемуазель Монпансье занимались составлением литературных портретов. Ларошфуко «написал» свой автопортрет, который современные исследователи признали одним из самых лучших.
«Я полон благородных чувств, добрых намерений и неколебимого желания быть поистине порядочным человеком...» - писал он тогда, желая выразить свое стремление, которое пронес через всю жизнь и которое мало кто понял и оценил. Ларошфуко отмечал, что всегда был до конца верен своим друзьям и неукоснительно держал слово. Если сравнить это сочинение с мемуарами, то станет очевидно, что в этом он и видел причину всех своих неудач при дворе...
В салоне мадам де Сабле увлеклись «сентенциями». По правилам игры заранее определялась тема, на которую каждый составлял афоризмы. Затем сентенции зачитывались перед всеми, и из них выбирались самые меткие и остроумные. С этой игры и начались знаменитые «Максимы».
В 1661 - начале 1662 года Ларошфуко закончил писать основной текст «Мемуаров». В то же время он начал работу и над составлением сборника «Максим». Новые афоризмы он показывал своим друзьям. Фактически дополнял и редактировал «Максимы» Ларошфуко всю оставшуюся жизнь. Им также были написаны 19 небольших эссе о морали, которые он собрал вместе под названием «Размышления на разные темы», хотя они впервые вышли в свет только в XVIII веке.
Вообще с публикацией своих произведений Ларошфуко не везло. Одна из рукописей «Мемуаров», которые он давал прочесть друзьям, попала к одному издателю и была опубликована в Руане в сильно измененном виде. Это издание вызвало огромный скандал. Ларошфуко обратился с жалобой в парижский парламент, который указом от 17 сентября 1662 года запретил его продажу. В том же году в Брюсселе был издан авторский вариант «Мемуаров».
Первое издание «Максим» вышло в 1664 году в Голландии - также без ведома автора и опять - по одной из рукописных копий, которые ходили среди его друзей. Ларошфуко был в ярости. Он срочно издал другой вариант. Всего при жизни герцога было выпущено пять одобренных им публикаций «Максим». Уже в XVII веке книга издавалась за пределами Франции. Вольтер отозвался о ней как об «одной из тех работ, которые в наибольшей степени способствовали формированию у нации вкуса и дали ей дух ясности...»
Последняя война
Отнюдь не усомнившись в существовании добродетелей, герцог разочаровался в людях, стремящихся подвести под добродетель практически любой свой поступок. Придворная жизнь, и особенно Фронда, дала ему массу примеров хитроумнейших интриг, где поступки не соответствуют словам и каждый в конечном итоге стремится лишь к собственной выгоде. «То, что мы принимаем за добродетель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью; так, например, порою женщины бывают целомудренны, а мужчины - доблестны совсем не потому, что им действительно свойственны целомудрие и доблесть». Такими словами открывается его сборник афоризмов.
Среди современников «Максимы» сразу вызвали большой резонанс. Одни находили их превосходными, другие - циничными. «Он совсем не верит ни в щедрость без тайного интереса, ни в жалость; он судит о мире по себе», - писала принцесса де Гемене. Герцогиня де Лонгвиль, прочтя их запретила своему сыну, графу Сен-Полю, отцом которого был Ларошфуко, посещать салон мадам де Сабле, где проповедуют такие мысли. Графа стала приглашать к себе в салон мадам де Лафайет, и постепенно Ларошфуко тоже стал все чаще захаживать к ней. С этого началась их дружба, продолжавшаяся до самой смерти. Ввиду почтенного возраста герцога и репутации графини их отношения почти не вызвали сплетен. Герцог практически ежедневно бывал у нее в доме, помогал работать над романами. Его идеи оказали весьма существенное влияние на творчество мадам де Лафайет, а его литературный вкус и легкий стиль помогли ей создать роман, который называют шедевром литературы XVII века, - «Принцесса Клевская».
Почти каждый день гости собирались у мадам Лафайет или у Ларошфуко, если он не мог приехать, беседовали, обсуждали интересные книги. Расин, Лафонтен, Корнель, Мольер, Буало читали у них свои новые произведения. Ларошфуко из-за болезни часто был вынужден оставаться дома. С 40 лет его мучила подагра, давали о себе знать и многочисленные ранения, болели глаза. Он совершенно отошел от политической жизни, однако, несмотря на все это, в 1667 году в возрасте 54 лет добровольцем отправился на войну с испанцами, чтобы участвовать в осаде Лилля. В 1670 году умерла его жена. В 1672-м на него обрушилось новое несчастье - в одном из сражений принц Марсийяк был ранен, а граф Сен-Поль убит. Через несколько дней пришло сообщение, что от ран скончался четвертый сын Ларошфуко, шевалье Марсийяк. Мадам де Севинье в своих знаменитых письмах дочери писала, что при этих известиях герцог старался сдержать чувства, но слезы сами текли у него из глаз.
В 1679 году Французская академия отметила работы Ларошфуко, ему было предложено стать ее членом, но он отказался. Одни считают причиной тому застенчивость и робость перед аудиторией (свои произведения он зачитывал только друзьям, когда присутствовало не больше 5-6 человек), другие - нежелание прославлять в торжественной речи Ришелье, основателя Академии. Быть может, дело в гордости аристократа. Дворянин был обязан уметь изящно писать, но быть писателем - ниже его достоинства.
В начале 1680 года Ларошфуко стало хуже. Врачи говорили об остром приступе подагры, современные исследователи считают, что это мог быть и легочный туберкулез. С начала марта стало ясно, что он умирает. Мадам де Лафайет проводила у него каждый день, но, когда надежда на выздоровление была окончательно потеряна, ей пришлось покинуть его. Согласно обычаям того времени у постели умирающего могли находиться только родные, священник и прислуга. В ночь с 16 на 17 марта в возрасте 66 лет он скончался в Париже на руках старшего сына.
Большинство современников считали его чудаком и неудачником. Ему не удалось стать тем, кем он хотел - ни блестящим придворным, ни удачливым фрондером. Будучи человеком гордым, он предпочитал считать себя непонятым. О том, что причина его неудач может крыться не только в своекорыстии и неблагодарности других, но отчасти и в нем самом, он решился поведать лишь в самые последние годы жизни, о чем большинство смогло узнать только после его смерти: «Дарования, которыми господь наделил людей, так же разнообразны, как деревья, которыми он украсил землю, и каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды. Потому-то лучшее грушевое дерево никогда не родит даже дрянных яблок, а самый даровитый человек пасует перед делом хотя и заурядным, но дающимся только тому, кто к этому делу способен. И потому сочинять афоризмы, не имея хоть небольшого таланта к занятию такого рода, не менее смехотворно, чем ожидать, что на грядке, где не высажены луковицы, зацветут тюльпаны». Впрочем, его талант как составителя афоризмов никто и никогда не оспаривал.
Франсуа де Ларошфуко
Размышления на разные темы
Перевод Э.Л. Линецкой
1. ОБ ИСТИННОМ
Истинное свойство предмета, явления или человека не умаляется при сравнении его с другим истинным же свойством, и, как бы ни отличались друг от друга предметы, явления или люди, истинное в одном не умаляется истинным в другом. При любом различии в значительности и яркости, они всегда равно истинны, потому что это свойство неизменно и в большом и в малом. Военное искусство более значительно, благородно, блистательно, нежели поэтическое, но поэт выдерживает сравнение с полководцем, равно как и живописец с законодателем, если они истинно те, за кого себя выдают.
Два человека могут быть не только различны, но и прямо противоположны по натуре, как, скажем, Сципион {1} и Ганнибал {2} или Фабий Максим {3} и Марцелл, {4} тем не менее, поскольку свойства их истинны, они выдерживают сравнение и при этом не умаляются. Александр {5} и Цезарь {6} раздаривают царства, вдовица жертвует грош; как бы ни рознились их дары, каждый из них истинно и равно щедр, ибо дарит соразмерно тому, чем обладает.
У этого человека несколько истинных свойств, у того только одно; первый, быть может, более замечателен, ибо отличается свойствами, каких нет у второго, но то, в чем они оба истинны, одинаково замечательно у обоих. Эпаминонд {7} был великий военачальник, хороший гражданин, известный философ; он достоин большего почета, чем Вергилий, {8} ибо в нем больше истинных свойств; но в качестве превосходного военачальника он ничуть не более велик, чем Вергилий - в качестве превосходного поэта, потому что военный гений Эпаминонда столь же истинный, сколь поэтический гений Вергилия. Жестокость мальчика, приговоренного консулом к смерти за то, что он выколол глаза вороне, {9} менее явственна, чем жестокость Филиппа Второго, {10} умертвившего собственного сына, и, может быть, меньше отягощена другими пороками; однако жестокость, проявленная к бессловесной твари, стоит в одном ряду с жестокостью одного из жесточайших владык, ибо разные степени жестокости в основе своей имеют равную истинность этого свойства.
Как бы ни рознились своими размерами замки в Шантийи {11} и Лианкуре, {12} каждый из них прекрасен в своем роде, поэтому Шантийи со всеми его разнообразными красотами не затмевает Лианкура, а Лианкур - Шантийи; красоты Шантийи подобают величию принца Конде, а красоты Лианкура - обыкновенному вельможе при том, что и те, и другие - истинны. Случается, однако, что женщины, обладающие красотой блестящей, но лишенной правильности, затмевают своих подлинно прекрасных соперниц. Дело в том, что вкус, выступающий судьей женской красоты, легко поддается предубеждению, к тому же красота самых прекрасных женщин подвержена мгновенным переменам. Впрочем, если менее красивые и затмевают совершенных красавиц, то лишь на короткий срок: просто особенности освещения и расположение духа затуманили подлинную красоту черт и красок, сделав явным то, что привлекательно в одной, и скрыв истинно прекрасное в другой.
2. О ПРИЯТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Говоря здесь о приятельских отношениях, я не имею в виду дружбу: они очень различны, хотя и имеют кое-какие общие черты. Дружба возвышеннее и достойнее, и заслуга приятельских отношений в том и состоит, что они хоть немного да похожи на нее.
Итак, я буду рассматривать сейчас только те отношения, которые должны были бы существовать между всеми порядочными людьми. Незачем доказывать, что взаимная приязнь необходима для общества: все стремятся и тянутся к ней, но лишь немногие поистине стараются взлелеять ее и продлить.
Человек ищет житейских благ и удовольствий за счет своих ближних. Себя он предпочитает другим и почти всегда дает им это почувствовать, тем самым нарушая и даже губя добрые отношения, которые хотел бы с ними поддерживать. Нам следует хотя бы ловко скрывать пристрастие к себе, раз уж оно присуще нам от рождения и совсем отделаться от него невозможно. Будем радоваться чужой радости, уважать и щадить чужое самолюбие.
В этом трудном деле ум окажет нам немалую помощь, но он один не справится с ролью вожатого на всех путях, по которым нам должно идти. Связь, возникающая между умами одного склада, лишь в том случае окажется залогом прочных приятельских отношений, если их укрепят и поддержат здравый смысл, ровность духа и предупредительность, без которых невозможно взаимное доброжелательство.
Если иной раз и случается, что люди, противоположные по складу ума и духа, близки между собой, то объяснения этому надо искать в соображениях посторонних и, следственно, Недолговечных. Бывает порой, что мы приятельствуем с людьми, которые ниже нас по рождению или достоинствам; в этом случае мы не должны злоупотреблять своими преимуществами, часто говорить о них или даже просто упоминать с целью иной, чем простое уведомление. Убедим наших приятелей, что нуждаемся в их указке, а указывая им, будем руководствоваться лишь разумом, оберегая сколько возможно чужие чувства и стремления.
Чтобы приятельские отношения не стали в тягость, пусть каждый сохранит свою свободу, пусть люди или вовсе не встречаются, или встречаются по общему желанию, вместе веселятся или даже вместе скучают. Между ними ничто не должно меняться и тогда, когда они расстаются. Им следует привыкнуть обходиться друг без друга, дабы встречи не превращались порой в обузу: надо помнить, что скорее всего наскучиваетближним тот, кто убежден, будто он никому не может наскучить.. Желательно по мере сил заботиться о развлечении тех, с кем мы хотим поддерживать добрые отношения, но нельзя превращать эту заботу в бремя.
Не может быть приятельских отношений без взаимной услужливости, но она не должна быть чрезмерной, не должна стать рабством. Пусть она хотя бы по виду будет добровольной, дабы наши приятели верили, что, ублажая их, мы ублажаем также и себя.
Нужно от всей души прощать приятелям их недостатки, если они заложены самой природой и невелики в сравнении с достоинствами. Нам не только не следует судить эти изъяны, но и замечать их. Попытаемся вести себя так, чтобы люди сами увидели свои дурные качества и, исправившись, считали это своей собственной заслугой.
Учтивость - это обязательное условие в отношениях между порядочными людьми: она научает их понимать шутки, не возмущаться и не возмущать других слишком резким или заносчивым тоном, который нередко появляется у тех, кто пылко отстаивает свое мнение.
Не могут эти отношения существовать и без некоторого взаимного доверия: людям должно быть присуще то выражение спокойной сдержанности, которое сразу рассеивает опасение услышать от них опрометчивые слова.
Трудно завоевать приязнь тому, кто умен всегда на один лад: человек с умом ограниченным быстро наскучивает. Не то важно, чтобы люди шли одним путем Или обладали одинаковыми дарованиями, а то, чтобы все они были приятны в общении и так же строго соблюдали лад, как разные голоса и инструменты при исполнении музыкальной пиесы.
Маловероятно, чтобы у нескольких человек были одинаковые стремления, но необходимо, чтобы стремления эти хотя бы не противоречили друг другу.
Нужно идти навстречу желаниям наших приятелей, стараться оказывать им услуги, оберегать их от огорчений, внушать, что уж если мы не в силах отвратить от них беду, то хотя бы разделяем ее с ними, незаметно рассеивать печаль, не пытаясь мгновенно отогнать ее, занимать их внимание предметами приятными или развлекательными. Можно беседовать о том, что касается их одних, но только с их согласия, да и то не забывая о границах дозволенного. Порою благороднее и даже человечнее не слишком углубляться в их сердечные тайники: людям иной раз неприятно показать все, что они там видят у себя, но еще неприятнее им, когда посторонние обнаруживают то, что они и сами еще как следует не разглядели. Пусть сперва добрые отношения помогут порядочным людям освоиться друг с другом и подскажут им множество тем для чистосердечных разговоров.
Мало кто так благоразумен и покладист, чтобы не отвергнуть иных дельных советов, как надлежит вести себя со своими приятелями. Мы согласны выслушать лишь те назидания, которые нам угодны, потому что сторонимся неприкрытой правды.
Разглядывая предметы, мы никогда не подходим к ним вплотную; не должны мы подходить вплотную и к нашим приятелям. Аюди хотят, чтобы их рассматривали с определенного расстояния, и обычно бывают правы, не желая, чтобы их видели слишком отчетливо: все мы, за малыми исключениями, опасаемся предстать перед ближними такими, каковы мы на самом деле.
3. О МАНЕРЕ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ И О ПОВЕДЕНИИ
Манера держать себя всегда должна быть в согласии с обликом человека и его природными склонностями: мы много теряем, присваивая себе манеру, нам чуждую.
Пусть каждый постарается изучить, какое поведение ему более всего подходит, строго придерживается этого поведения и, по мере сил, его совершенствует.
Дети большей частью потому так милы, что ни в чем не отступают от своей природы, ибо другого поведения и другой манеры держаться, кроме присущих им, они еще не знают. Став взрослыми, они их меняют и этим все портят: им кажется, что они должны подражать окружающим, но подражание их неумело, на нем лежит печать неуверенности и фальши. Их манеры, равно как и чувства, переменчивы, ибо эти люди стараются казаться иными, чем они есть на самом деле, вместо того, чтобы стать такими, какими хотят казаться.
Каждый жаждет быть не собой, а кем-то другим, жаждет присвоить себе чуждый ему облик и неприсущий ум, заимствуя их у кого попало. Люди делают опыты над собой, не понимая, что подобающее одному вовсе не подобает другому, что нет общих правил для поведения и что копии всегда плохи.
Разумеется, двое людей могут во многом вести себя одинаково, отнюдь не копируя друг друга, если оба они следуют своей натуре, но это случай редкий: люди любят подражать, они часто подражают, сами того не замечая, и отказываются от своего достояния ради достояния чужого, идущего им, как правило, во вред.
Я вовсе не хочу этим сказать, что мы должны довольствоваться тем, чем наградила нас природа, не вправе следовать примерам и усваивать качества, полезные и необходимые, но не свойственные нам от рождения. Искусства и науки украшают почти всех способных к ним людей; благожелательность и учтивость всем к лицу; но и эти приобретенные свойства должны сочетаться и гармонировать с нашими собственными качествами, лишь тогда они будут неприметно развиваться и совершенствоваться.
Мы порою достигаем положения или сана слишком для нас высокого, часто беремся за ремесло, к которому природа нас не предназначила. И этому сану, и этому ремеслу подобает манера держать себя, не всегда схожая с нашей натуральной манерой. Перемена обстоятельств нередко изменяет и наше поведение, и мы напускаем на себя величественность, которая выглядит принужденно, если она чересчур подчеркнута и противоречит нашему облику. То, что нам дано от рождения, и то, что нами благоприобретено, должно быть слито и соединено в одно неразрывное целое.
Нельзя говорить тем же тоном и на неизменный лад о вещах различных, как нельзя одинаковой походкой идти во главе полка и на прогулке. Но, меняя тон в зависимости от предмета беседы, мы должны хранить полную непринужденность, как должны хранить ее, когда по-разному двигаемся, праздно прогуливаясь или возглавляя отряд.
Иные люди не только с готовностью отказываются от присущей им манеры держаться ради той, которую считают приличествующей достигнутому положению и сану, - они, еще только мечтая о возвышении, заранее начинают вести себя так, словно уже возвысились. Сколько полковников ведут себя, как маршалы Франции, сколько судейских напускают на себя вид канцлеров, сколько горожанок играют роль герцогинь!
Люди часто вызывают неприязнь как раз потому, что не умеют сочетать манеру держаться и поведение со своим обликом, а тон и слова - с мыслями и чувствами. Они нарушают их гармонию чертами, им несвойственными, чужеродными, грешат против собственной натуры и все больше и больше себе изменяют. Мало кто свободен от этого порока и обладает слухом столь тонким, чтобы никогда не сфальшивить.
Множество людей с изрядными достоинствами тем не менее неприятны, множество людей с достоинствами куда меньшими всем нравятся. Вызвано это тем, что одни все время кому-то подражают, а другие таковы, какими они кажутся. Короче говоря, при любых наших природных недостатках и достоинствах мы тем приятнее окружающим, чем согласнее наш вид и тон, манеры и чувства с нашим обликом и положением в обществе, и тем неприятнее, чем большее между ними несоответствие.
4. ОБ УМЕНИИ ВЕСТИ БЕСЕДУ
Приятные собеседники потому так редко встречаются, что люди думают не о тех словах, которым внимают, а о тех, которые жаждут произнести. Человек, желающий, чтобы его выслушали, должен в свою очередь выслушать говорящих, дать им время высказаться, проявляя терпение, даже если они попусту разглагольствуют. Вместо того, чтобы, как это нередко бывает, тут же оспаривать и прерывать их, необходимо, напротив, проникнуться точкой зрения и вкусом собеседника, показать, что мы оценили их, завести разговор о том, что ему дорого, похвалить в его суждениях все, достойное похвалы, и не с видом снисхождения, а с полной искренностью.
Надо уклоняться от споров о предметах несущественных, не злоупотреблять вопросами, большей частью бесполезными, никогда не показывать, что себя мы считаем умнее прочих, и охотно предоставлять другим окончательное решение.
Говорить следует просто, понятно и в той мере серьезно, в какой допускают это познания и расположение духа слушателей, не понуждая их к одобрению и даже не отвечая на него.
Отдав, таким образом, должное учтивости, мы можем высказать и наше мнение, не без предубежденности и упрямства, подчеркивая, что ищем у других подтверждения своим взглядам.
Будем как можно реже поминать себя и ставить в пример. Постараемся досконально понять, каковы пристрастия и способность к разумению у наших собеседников, и затем станем на сторону того, у кого этого разумения брлыне, присовокупив к его мыслям наши собственные, но столь скромно, чтобы он поверил, будто мы заимствовали их у него.
Благоразумно поступает тот, кто не исчерпывает сам предмета беседы и дает возможность другим что-то еще придумать и сказать.
Ни в коем случае не следует говорить тоном наставительным и употреблять слова и выражения, чрезмерно высокие для предмета беседы. Можно придерживаться своего мнения, если оно разумно, но, и оставаясь при нем, не будем задевать чужие чувства или возмущаться чужими речами.
Мы станем на опасный путь, если все время будем пытаться управлять течением беседы или слишком часто говорить об одном и том же. Нам надлежит подхватывать любой разговор, приятный нашим собеседникам, не сворачивая его на предмет, о котором мы жаждем высказаться.
Будем твердо помнить, что, каких бы достоинств ни был исполнен человек, отнюдь не всякая беседа, даже отменно умная и достойная, может его одушевить; с каждым надо разговаривать о близких ему предметах и лишь тогда, когда это уместно.
Но если сказать слово кстати - большое искусство, то кстати промолчать - искусство еще большее. Красноречивым молчанием можно порою выразить и согласие, и неодобрение; бывает молчание насмешливое, бывает и почтительное.
Существуют, наконец, оттенки в выражении лица, в жестах, повадках, которые часто придают беседе приятность и утонченность или делают ее докучной и несносной. Умеют пользоваться этими оттенками немногие. Даже те самые люди, которые поучают правилам ведения беседы, иной раз совершают промахи. На мой взгляд, вернейшее из этих правил - если понадобится, изменять любому из них, лучше уж говорить небрежно, нежели напыщенно, слушать, помалкивать и никогда не понуждать себя к разговору.
5. ОБ ОТКРОВЕННОСТИ
Хотя у искренности и откровенности много общего, все же между ними немало и различий.
Искренность - это чистосердечие, являющее нас такими, каковы мы на самом деле, это любовь к правде, отвращение к лицемерию, жажда покаяться в своих недостатках, чтобы, честно признавшись в них, тем самым отчасти их исправить.
Откровенность не дает нам такой свободы; ее рамки уже, она требует большей сдержанности и осторожности, и мы не всегда властны ею распоряжаться. Тут уже речь идет не о нас одних, наши интересы обычно тесно переплетены с интересами других людей, поэтому откровенность должна быть необычайно осмотрительна, иначе, предав нас, она предаст и наших друзей, повысив цену даруемого нами, принесет в жертву их благо.
Откровенность всегда приятна, тому, к кому она обращена: это дань, которую мы платим его добродетелям, достояние, которое вручаем его честности, залог, дающий ему права на нас, узы, добровольно налагаемые нами на себя.
Меня вовсе не надо понимать так, будто я стараюсь искоренить откровенность, столь необходимую в обществе, ибо на ней зиждутся все людские приязни, всякая дружба. Я только пытаюсь поставить ей пределы, дабы она не нарушала правил порядочности и верности. Я хочу, чтобы откровенность всегда была прямодушна и вместе с тем осмотрительна, чтобы она не поддавалась ни малодушию, ни своекорыстию. Мне хорошо известно, как трудно установить точные границы, в которых нам дозволено принимать откровенность наших друзей и в свою очередь быть откровенными с ними.
Чаще всего люди пускаются в откровенность из тщеславия, из неспособности молчать, из желания привлечь доверие и обменяться тайнами. Бывает так, что человек имеет все основания довериться нам, но у нас таких оснований нет; в этих случаях мы расплачиваемся тем, что храним его тайну и отделываемся маловажными признаниями. В других случаях мы знаем, что человек нам неподкупно предан, что он ничего от нас не утаивает и что мы можем излить ему душу и по сердечному выбору и по здравому размышлению. Такому человеку мы должны поверять все, что касается только нас; должны показывать нашу истинную суть - наши достоинства непреувеличенными, равно как и недостатки непреуменьшенными; должны взять себе за твердое правило никогда не делать ему полупризнаний, ибо они всегда ставят в ложное положение того, кто их делает, нисколько не удовлетворяя того, кто выслушивает. Полупризнания искажают то, что мы желаем скрыть, разжигают любопытство в собеседнике, оправдывают его стремление выведать побольше и развязывают ему руки в отношении уже узнанного. Благоразумнее и честнее вовсе не говорить, чем недоговаривать.
Если же дело касается вверенных нам тайн, тут мы должны подчиняться другим правилам, и чем эти тайны важнее, тем от нас требуемся большая осмотрительность и умение держать слово. Все согласятся с тем, что чужую тайну надо хранить, но о природе самой тайны и о ее важности мнения могут и разойтись. Мы чаще всего сообразуемся со своим собственным суждением по поводу того, о чем позволительно говорить, а о чем нужно молчать. На свете мало тайн, хранимых вечно, ибо голос щепетильности, требующий не выдавать чужого секрета, со временем умолкает.
Порою нас связывает дружба с людьми, чьи добрые чувства к нам уже испытаны; они всегда были откровенны с нами, и мы платили им тем же. Эти люди знают наши привычки и связи, они так хорошо изучили все наши повадки, что замечают малейшую перемену в нас. Они, возможно, почерпнули из другого источника то, что мы поклялись никогда и никому не разглашать, тем не менее не в нашей власти поведать им сообщенную нам тайну, даже если она в какой-то степени касается этих людей. Мы уверены в них, как в самих себе, и вот стоим перед трудным выбором: потерять их дружбу или нарушить обещание. Что говорить, нет более жестокого испытания верности слову, чем это, но порядочного человека оно не поколеблет: в этом случае ему дозволено себя предпочесть другим. Первейший его долг - нерушимо хранить доверенное ему чужое достояние. Он обязан не только следить за своими словами и голосом, но и остерегаться необдуманных замечаний, обязан ничем не выдавать себя, дабы его речи и выражение лица не навели других на след того, о чем ему надобно молчать.
Нередко только с помощью незаурядной осмотрительности и твердости характера человеку удается противостоять тирании друзей, которые в большинстве своем считают, что они вправе посягать на нашу откровенность, и жаждут узнать о нас решительно все: такого исключительного права нельзя давать никому. Бывают встречи и обстоятельства, не подлежащие их надзору; если они начнут на это пенять, что ж, выслушаем кротко их упреки и постараемся спокойно оправдаться перед ними, но если они и дальше будут предъявлять неправые притязания, нам остается одно: пожертвовать их дружбой во имя долга, сделав, таким образом, выбор меж двух неизбежных зол, ибо одно из них еще можно исправить, тогда как другое непоправимо.
6. О ЛЮБВИ И О МОРЕ
Авторы, бравшиеся за описание любви и ее прихотей, на столь разнообразные; лады сравнивали это чувство с морем, что дополнить их сравнения новыми чертами дело очень нелегкое: уже было сказано, что любовь и море непостоянны и вероломны, что они несут людям несчетные блага, равно как и несчетные беды, что наисчастливейшее плаванье тем не менее чревато страшными опасностями, что велика угроза рифов и бурь, что потерпеть кораблекрушение можно даже в гавани. Но, перечислив все, на что можно уповать, и все, чего следует страшиться, эти авторы слишком мало, на мой взгляд, сказали о сходстве любви еле тлеющей, исчерпанной, отжившей с теми долгими штилями, с теми докучными затишьями, которые так часты в экваториальных морях. Люди утомлены длительным путешествием, мечтают о его конце, но, хотя земля уже видна, попутного ветра все нет и нет; зной и холод терзают их, болезни и усталость обессиливают; вода и пища пришли к концу или стали неприятны на вкус; кое-кто пытается ловить, даже вылавливает рыбу, но занятие это не приносит ни развлечения, ни еды. Человеку прискучило все, что его окружает, он погружен в свои мысли, постоянно скучает; он еще живет, но уже нехотя, жаждет, чтобы желания вывели его из этой болезненной истомы, но если они у него и рождаются, то немощные и никому не нужные.
7. О ПРИМЕРАХ
Хотя хорошие примеры весьма отличны от дурных, все же, если подумать, то видишь, что и те, и другие почти всегда приводят к одинаково печальным последствиям. Я даже склонен считать, что злодеяния Тиберия {1} и Нерона {2} больше отвращают нас от порока, чем самые достойные поступки великих людей приближают к добродетели. Сколько фанфаронов наплодила доблесть Александра! Сколько преступлений против отчизны посеяла слава Цезаря! Сколько жестоких добродетелей взращено Римом и Спартой! Сколько несносных философов создал Диоген, {3} краснобаев - Цицерон, {4} стоящих в сторонке бездельников Помпоний Аттик, {5} кровожадных мстителей - Марий {6} и Сулла, {7} чревоугодников - Лукулл, {8} развратников - Алкивиад {9} и Антоний, {10} упрямцев - Катон {11}. Эти великие образцы породили бессчетное множество дурных копий. Добродетели граничат с пороками, а примеры - это проводники, которые часто сбивают нас с правильной дороги, ибо мы сами так склонны заблуждаться, что в равной степени прибегаем к ним и для того, чтобы сойти со стези добродетели, и для того, чтобы на нее встать.
8. О СОМНЕНИЯХ РЕВНОСТИ
Чем больше человек говорит о своей ревности, тем больше неожиданных черт открывает в поступке, вызвавшем у него тревогу. Самое ничтожное обстоятельство все переворачивает, открывая глазам ревнующего нечто новое. То, что, мнилось, уже окончательно обдумано и взбешено, теперь выглядит совсем по-иному. Человек пытается составить себе твердое суждение, но не может: он во власти чувств самых противоречивых и ему самому неясных, одновременно жаждет и любить и ненавидеть, любит ненавидя, ненавидит любя, всему верит и во всем сомневается, стыдится и презирает себя и за то, что поверил, и за то, что усомнился, неустанно пытается прийти к какому-нибудь решению и ни к чему не приходит.
Поэтам следовало бы ревнивца уподоблять Сизифу: {1} труд того и другого бесплоден, а путь - тяжел и опасен; уже видна вершина горы, он вот-вот ее достигнет, он полон надежды - но все напрасно: ему отказано не только в счастье поверить тому, чему хочется, но даже и в счастье окончательно убедиться в том, в чем убедиться всего страшнее; он во власти вечного сомнения, поочередно рисующего ему блага и горести, которые так и остаются воображаемыми.
9. О ЛЮБВИ И О ЖИЗНИ
Любовь во всем подобна жизни: они обе подвержены тем же возмущениям, тем же переменам. Юная пора и той и другой полна счастья и надежд: мы не меньше радуемся своей молодости, чем любви. Находясь в столь радужном расположении духа, мы начинаем желать и других благ, уже более основательных: не довольствуясь тем, что существуем на свете, мы хотим продвинуться на жизненном поприще, ломаем себе голову, как бы завоевать высокое положение и утвердиться в нем, стараемся войти в доверие к министрам, стать им полезными и не выносим, когда другие притязают на то, что приглянулось нам самим. Такое соревнование всегда чревато множеством забот и огорчений, но воздействие их смягчается приятным сознанием, что мы добились удачи: вожделения наши удовлетворены, и мы не сомневаемся, что будем счастливы вечно.
Однако чаще всего это блаженство быстро приходит к концу и, во всяком случае, теряет очарование новизны: едва добившись желаемого, мы сразу начинаем стремиться к новым целям, так как быстро привыкаем к тому, что стало нашим достоянием, и приобретенные блага уже не кажутся столь ценными и заманчивыми. Мы неприметно изменяемся, то, чего мы добились, становится частью нас самих и, хотя утрата его была бы жестоким ударом, обладание им не приносит прежней радости: она потеряла свою остроту, и теперь мы ищем ее не в том, чего еще недавно так пылко желали, а где-то на стороне. В этом невольном непостоянстве повинно время, которое, не спрашивая нас, частица за частицей поглощает и нашу жизнь, и нашу любовь. Что ни час, оно неощутимо стирает какую-нибудь черту юности и веселья, разрушая самую суть их прелести. Человек становится степеннее, и дела занимают его не меньше, чем страсть; чтобы не зачахнуть, любовь должна теперь прибегать ко всевозможным ухищрениям, а это означает, что она достигла возраста, когда уже виден конец. Но насильственно приблизить его никто из любящих не хочет, ибо на склоне любви, как и на склоне жизни, люди не решаются по доброй воле уйти от горестей, которые им еще остается претерпеть: перестав жить для наслаждений, они продолжают жить для скорбей. Ревность, недоверие, боязнь наскучить, боязнь оказаться покинутым - эти мучительные чувства столь же неизбежно связаны с угасающей любовью, как болезни - с чересчур долгой жизнью: живым человек чувствует себя только потому, что ему больно, любящим - только потому, что испытывает все терзания любви. Дремотное оцепенение слишком длительных привязанностей всегда кончается лишь горечью да сожалением о том, что связь все еще крепка. Итак, всякое одряхление тяжка, но всего невыносимее - одряхление любви.
10. О ВКУСАХ
У иных людей больше ума, чем вкуса, у других больше вкуса, чем ума. {1} Людские умы не столь разнообразны и прихотливы, как вкусы.
Слово "вкус" имеет различные значения, и разобраться в них нелегко. Не следует путать вкус, влекущий нас к какому-либо предмету, и вкус, помогающий понять этот предмет и определить согласно всем правилам его достоинства и недостатки. Можно любить театральные представления, не обладая вкусом столь тонким и изящным, чтобы верно о них судить, и можно, вовсе их не любя, иметь достаточно вкуса для верного суждения. Порою вкус неприметно подталкивает нас к тому, что мы созерцаем, а иной раз бурно и неодолимо увлекает вслед за собой.
У одних вкус ошибочен во всем без исключения, у других он заблуждается лишь в некоторых областях, зато во всем доступном их разумению, точен и непогрешим, у третьих - причудлив, и они, зная это, ему не доверяют. Есть люди со вкусом неустойчивым, который зависит от случая; такие люди изменяют мнения по легкомыслию, восторгаются или скучают только потому, что восторгаются или скучают их друзья. Другие полны предрассуждений: они - рабы своих вкусов и почитают их превыше всего. Существуют и такие, которым приятно все, что хорошо, и невыносимо все, что дурно: взгляды их отличаются ясностью и определенностью, и подтверждений своему вкусу они ищут в доводах разума и здравомыслия.
Некоторые, следуя побуждению, непонятному им самим, сразу выносят приговор тому, что представлено на их суд, и при этом никогда не делают промахов. У этих людей вкуса больше, чем ума, ибо ни самолюбие, ни склонности не властны над их прирожденной проницательностью. Все в них гармония, все настроено на единый лад. Благодаря царящему в их душе согласию, они здраво судят и составляют себе правильное представление обо всем, но, вообще говоря, мало таких людей, чьи вкусы были бы устойчивы и независимы от вкусов общепринятых; большинство лишь следует чужим примерам и обычаю, черпая из этого источника почти все свои мнения.
Среди перечисленных здесь разнообразных вкусов трудно или почти невозможно обнаружить такого рода хороший вкус, который знал бы истинную цену всему, умел бы всегда распознавать подлинные достоинства и был бы всеобъемлющ. Познания наши слишком ограничены, а беспристрастие, столь необходимое для правильности суждений, большей частью присуще нам лишь в тех случаях, когда мы судим о предметах, которые нас не касаются. Если же речь идет о чем-то нам близком, вкус наш, колеблемый пристрастием к предмету, утрачивает это столь нужное ему равновесие. Все, что имеет отношение к нам, всегда выступает в искаженном свете, и нет человека, который с равным спокойствием смотрел бы на предметы дорогие ему и на предметы безразличные. Когда речь идет о том, что нас задевает, вкус наш повинуется указке себялюбия и склонности; они подсказывают суждения, отличные от прежних, рождают неуверенность и бесконечную переменчивость. Наш вкус уже не принадлежит нам, мы им не располагаем. Он меняется помимо нашей воли, и знакомый предмет предстает перед нами со стороны столь неожиданной, что мы уже не помним, каким видели и ощущали его прежде.
11. О СХОДСТВЕ ЛЮДЕЙ С ЖИВОТНЫМИ
Люди, как и животные, делятся на множество видов, столь же несхожих между собой, как несхожи разные породы и виды животных. Сколько людей кормится тем, что проливают кровь невинных и убивают их! Одни подобны тиграм, всегда свирепым и жестоким, другие - львам, сохраняющим видимость великодушия, третьи - медведям, грубым и алчным, четвертые - волкам, хищным и безжалостным, пятые - лисам, которые добывают пропитание лукавством и обман избрали ремеслом.
А сколько людей похожи на собак! Они загрызают своих сородичей, бегут на охоту, чтобы потешить того, кто их кормит, всюду следуют за хозяином или стерегут его дом. Есть среди них храбрые гончие, которые посвящают себя войне, живут своей доблестью и не лишены благородства; есть неистовые доги, у которых нет иных достоинств, кроме бешеной злобы; есть псы, не приносящие пользы, которые часто лают, а порою даже кусаются, и есть просто собаки на сене.
Есть обезьяны, мартышки - приятные в обхождении, даже остроумные, но при этом очень зловредные; есть и павлины, которые могут похвалиться красотой, зато, докучают своими криками и все вокруг портят.
Есть птицы, привлекающие своей пестрой расцветкой и пением. Сколько на свете попугаев, которые неумолчно болтают неведомо что; сорок и ворон, которые прикидываются ручными, чтобы воровать без опаски; хищных птиц, живущих грабежом; миролюбивых и кротких животных, которые служат пищей хищным зверям!
Есть кошки, всегда настороженные, коварные и изменчивые, но умеющие ласкать бархатными лапками; гадюки, чьи языки ядовиты, а все остальное даже полезно; пауки, мухи, клопы, блохи, несносные и омерзительные; жабы, внушающие ужас, хотя они всего-навсего ядовиты; совы, боящиеся света. Сколько животных укрывается от врагов под землей! Сколько лошадей, переделавших множество полезных работ, а потом, на старости лет, заброшенных хозяевами; волов, трудившихся весь свой век на благо тех, кто надел на них ярмо; стрекоз, только и знающих что петь; зайцев, всегда дрожащих от страха; кроликов, которые пугаются и тут же забывают о своем испуге; свиней, блаженствующих в грязи и мерзости; подсадных уток, предающих и подводящих под выстрел себе подобных; воронов и грифов, чей корм - падаль и мертвечина! Сколько перелетных птиц, которые меняют одну часть света на другую и, пытаясь спастись от гибели, подвергают себя множеству опасностей! Сколько ласточек - неизменных спутниц лета, майских жуков, опрометчивых и беспечных, мотыльков, летящих на огонь и в огне сгорающих! Сколько пчел, почитающих свою родоначальницу и добывающих пропитание так прилежно и разумно; трутней, ленивых бродяг, которые норовят жить за счет пчел; муравьев, предусмотрительных, бережливых и поэтому не знающих нужды; крокодилов, проливающих слезы, чтобы, разжалобив жертву, потом ее сожрать! И сколько животных, порабощенных только потому, что сами не понимают, как они сильны!
Все эти свойства присущи человеку, и он ведет себя по отношению к себе подобным точно так, как ведут себя друг с другом животные, о которых мы только что говорили.
12. О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕДУГОВ
Стоит вдуматься в происхождение недугов - и станет ясно, что все они коренятся в страстях человека и в горестях, отягчающих его душу. Золотой век, не знавший ни этих страстей, ни горестей, не знал и недугов телесных; серебряный, за ним последовавший, все еще хранил былую чистоту; медный век уже породил и страсти, и горести, но, подобно всему, не вышедшему из младенческого состояния, они были слабы и необременительны; зато в железном веке они обрели полную свою мощь и зловредность и, тлетворные, стали источником недугов, которые многие столетия изнуряют человечество. Честолюбие плодит горячки и буйное помешательство, зависть - желтухи и бессонницы; леность повинна в сонной болезни, параличах, бледной немочи; гнев - причина удуший, полнокровия, воспаления легких, а страх сердцебиений и обмороков; тщеславие ведет к сумасшествию; скупость порождает чесотку и паршу, унылость - худосочие, жестокость - каменную болезнь; клевета совместно с лицемерием произвели на свет корь, оспу, скарлатину; ревности мы обязаны антоновым огнем, чумой и бешенством. Внезапная немилость власть имущих поражает потерпевших апоплексическими ударами, тяжбы влекут за собой мигрени и бред, долги идут об руку с чахоткой, семейные нелады приводят к четырехдневной лихорадке, а охлаждение, в котором любовники не смеют признаться друг другу, вызывает нервические припадки. Что касается любви, то она породила больше недугов, чем остальные страсти вместе взятые, и перечислить их нет возможности. Но так как она в то же время - величайшая даятельница благ в этом мире, мы не станем поносить ее и просто промолчим: к ней надлежит всегда относиться с подобающим почтением и страхом.
13. О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ
Люди заблуждаются по-разному. Одни знают о своих заблуждениях, но тщатся доказать, что никогда не заблуждаются. Другие, более простосердечные, заблуждаются чуть ли не с рождения, но не подозревают об этом и все видят в превратном свете. Тот все верно понимает умом, но подвержен заблуждениям вкуса, этот поддается заблуждениям ума, но вкус редко ему изменяет; существуют, наконец, люди с ясным умом и отменным вкусом, но таких мало, потому что, вообще говоря, вряд ли есть на свете человек, чей ум или вкус не таил бы какого-нибудь изъяна.
Людские заблуждения потому так повсеместны, что свидетельства наших чувств, равно как и вкуса, неточны и противоречивы. Мы видим окружающее не совсем таким, каково оно на самом деле, ценим его дороже или дешевле, чем оно того стоит, связываем с собой не так, как, с одной стороны, подобает ему, а с другой - нашим склонностям и положению. Этим и объясняются бесконечные заблуждения ума и вкуса. Человеческому самолюбию льстит все, что предстает перед ним в облике добродетели, но так как на наше тщеславие или воображение - действуют различные ее воплощения, то мы предпочитаем выбирать в качестве образца лишь общепринятое или нетрудное. Мы подражаем другим людям, не задумываясь над тем, что одно и то же чувство пристало отнюдь не всем и что отдаваться ему надобно лишь в той мере, в какой оно нам подобает.
Заблуждений вкуса люди боятся еще больше, чем заблуждений ума. Однако порядочный человек должен непредубежденно одобрять все, заслуживающее одобрения, следовать тому, что следования достойно, и ничем не кичиться. Но для этого необходимы незаурядная проницательность и незаурядное чувство меры. Нужно научиться отличать добро вообще от того добра, на которое мы способны, и, повинуясь врожденным склонностям, разумно ограничиваться тем, к чему лежит наша душа. Если бы мы старались преуспеть только в той области, в которой одарены, и следовали только своему долгу, наши вкусы, точно так же как поведение, были бы всегда правильны, а мы сами неизменно оставались бы собой, судили бы обо всем по своему разумению и убежденно отстаивали бы свои взгляды. Наши мысли и чувства были бы здравы, вкусы - собственные, а не присвоенные - носили бы печать здравого смысла, ибо мы придерживались бы их не по случайному стечению обстоятельств или установленному обычаю, а по свободному выбору.
Люди заблуждаются, когда одобряют то, чего одобрять не стоит, и точно так же они заблуждаются, стараясь щегольнуть качествами, им никак не подобающими, хотя и вполне достойными. Впадает в заблуждение тот облаченный властью чиновник, который пуще всего кичится отвагой, пусть даже ему и свойственной. Он прав, когда проявляет неколебимую твердость по отношению к бунтовщикам, {1} но заблуждается и становится смешным, когда то и дело дерется на дуэли. Женщина может любить науки, но так как не все они доступны ей, она поддастся заблуждению, если упрямо будет заниматься тем, для чего не создана.
Наш разум и здравый смысл должны оценивать окружающее по его истинной цене, побуждая вкус находить всему, что мы рассматриваем, место не только заслуженное, но и согласное с нашими склонностями. Однако почти все люди ошибаются в этих вопросах и постоянно впадают в заблуждения.
Чем могущественнее король, тем чаще он совершает подобные ошибки: он хочет превзойти прочих смертных в доблести, в знаниях, в любовных успехах, словом, в том, на что может притязать кто угодно. Но эта жажда превосходства над всеми может стать источником заблуждений, если она неуемна. Не такое соревнование должно его привлекать. Пусть он подражает Александру, {2} который соглашался состязаться в беге на колесницах только с царями, пусть соревнуется лишь в том, что достойно его монаршего сана. Как бы отважен, учен или любезен ни был король, отыщется великое множество людей столь же отважных, ученых и любезных. Попытки превзойти всех до единого всегда будут неправыми, а порою и обреченными на неудачу. Но вот если старания свои он посвятит тому, что составляет его долг, если будет великодушен, искушен в делах бранных и государственных, справедлив, милосерден и щедр, полон заботы о подданных, о славе и процветании своей державы, то побеждать на столь благородном поприще ему уже придется только королей. Он не впадет в заблуждение, замыслив их превзойти в таких праведных и прекрасных деяниях; поистине это соревнование достойно короля, ибо тут он притязает на подлинное величие.
14. О СОЗДАННЫХ ПРИРОДОЙ И СУДЬБОЙ ОБРАЗЦАХ
Как ни переменчива и прихотлива судьба, все же она порою отказывается от своих прихотей и склонности к переменам и, объединившись с природой, создает совместно с нею удивительных, необычайных людей, которые становятся образцами для будущих поколений. Дело природы - наградить их особыми свойствами, дело судьбы - помочь им проявить эти свойства с таким размахом и при таких обстоятельствах, которые отвечали бы замыслу той и другой. Подобно великим художникам, природа и судьба воплощают в этих совершенных творениях все, что им хотелось изобразить. Сперва они решают, каков должен быть человек, а потом начинают действовать по строго обдуманному плану: выбирают семью и наставников, свойства, врожденные и благоприобретенные, время, возможности, друзей и врагов, оттеняют добродетели и пороки, подвиги и промахи, не ленятся к событиям важным добавить ничтожные и так искусно все расположить, что свершения избранников и мотивы свершений мы всегда видим только в определенном свете и под определенным углом зрения.
Какими блестящими свойствами наградили природа и судьба Александра, желая показать нам образец величия души и несравненного мужества! Если вспомнить, в какой прославленной семье он родился, его воспитание, молодость, красоту, превосходное здоровье, замечательные и разнообразные способности к военной науке и к наукам вообще, достоинства и даже недостатки, малочисленность его отрядов, огромную мощь вражеских войск, краткость этой прекрасной жизни, смерть Александра и кто ему наследовал если вспомнить все это, разве не станет ясно, с каким искусством и прилежанием подбирали природа и судьба эти бессчетные обстоятельства ради создания подобного человека? Разве не ясно, как обдуманно располагали они многочисленные и необычайные события, отводя каждому предназначенный ему день, чтобы явить миру образец юного завоевателя, еще более великого своими человеческими свойствами, нежели громкими победами?
А если подумать над тем, в каком свете природа и судьба представляют нам Цезаря, разве мы не увидим, что они следовали совсем иному плану) когда вкладывали в этого человека столько отваги, милосердия, щедрости, воинских доблестей, проницательности, живости ума, снисходительности, красноречия, телесных совершенств, высоких достоинств, нужных и в дни мира, и в дни войны? Разве не для того они так долго трудились, сочетая столь поразительные дарования, помогая их проявить, а затем понуждая Цезаря выступить против своей родины, чтобы дать нам образец необыкновеннейшего из смертных и знаменитейшего из узурпаторов? Их стараниями он со всеми своими талантами появляется на свет в республике - владычице мира, которую поддерживают и утверждают самые великие ее сыны. Судьба предусмотрительно выбирает ему врагов из наиболее известных, влиятельных и непреклонных граждан Рима, на время примиряет с самыми значительными, чтобы использовать их для его возвышения, а потом, введя их в обман и ослепив, толкает на войну с ним, на ту самую войну, которая приведет его к высшему могуществу. Сколько препятствий она поставила на его пути! От скольких опасностей уберегла на суше и на море, так что он ни разу не был даже легко ранен! Как настойчиво поддерживала замыслы Цезаря и разрушала замыслы Помпея! {1} Как ловко принудила вольнолюбивых и заносчивых римлян, ревниво оберегающих свою независимость, подчиниться власти одного человека! Даже обстоятельства смерти Цезаря {2} были подобраны ею так, чтобы они находились в согласии с его жизнью. Ни предсказания ясновидящих, ни сверхъестественные знамения, ни предупреждения жены и друзей не смогли его спасти; днем его смерти судьба избрала день, когда Сенат должен был предложить ему царскую диадему, а убийцами - людей, которых он спас, человека, которому дал жизнь! {3}
Особенно очевиден этот совместный труд природы и судьбы в личности Катона; {4} они как бы нарочно вложили в него все добродетели, свойственные древним римлянам, и противопоставили их добродетелям Цезаря, чтобы всем показать, что, хотя оба в равной степени обладали обширным умом и храбростью, одного жажда славы сделала узурпатором, другого - образцом совершенного гражданина. У меня нет намерения сравнивать здесь этих великих людей - о них уже достаточно написано; я хочу только подчеркнуть, что какими бы великими и замечательными они ни являлись нашим взорам, природа и судьба не смогли бы выставить их качества в надлежащем свете, если бы не противопоставила Цезаря Катону и наоборот. Эти люди непременно должны были появиться на свет в одно и то же время и в одной и той же республике, наделенные несхожими склонностями и дарованиями, обреченные на вражду несовместностью личных устремлений и отношения к отчизне: один - не знавший удержу в замыслах и границ в честолюбии; другой - сурово замкнувшийся в приверженности к установлениям Рима и обоготворявший свободу; оба прославленные высокими, но различными достоинствами и, осмелюсь сказать, еще более прославленные противоборством, о котором заранее позаботились судьба и природа. Как вяжутся друг с другом, как едины и необходимы все обстоятельства жизни Катона и его смерти! Для полноты изображения этого великого человека судьба пожелала неразрывно связать, его с Республикой и одновременно отняла жизнь у него и свободу у Рима.
Если перевести взгляд с веков минувших на век нынешний, мы видим, что природа и судьба, находясь все в том же союзе, о котором я уже говорил, снова подарили нам непохожие друг на друга образцы в лице двух замечательных полководцев. Мы видим, как, соревнуясь в воинской доблести, принц Конде и маршал Тюренн {5} совершают несчетные и блестящие деяния и достигают вершин заслуженной славы. Они предстают перед нами, равные по отваге и опыту, действуют, не ведая телесной или душевной усталости, то вместе, то врозь, то один против другого, испытывают все превратности войны, одерживают победы и терпят поражения. Наделенные прозорливостью и храбростью и обязанные своими успехами этим свойствам, они с годами становятся все более великими, какие бы неудачи их ни постигали, спасают государство, порою наносят ему удары и по-разному пользуются одинаковыми дарованиями. Маршал Тюренн, менее пылкий и более осторожный в своих замыслах, умеет сдерживать себя и выказывает ровно столько отваги, сколько необходимо для его целей; принц Конде, чья способность в мгновение ока охватывать целое и совершать истинные чудеса не имеет равных, увлекаемый своим необычным дарованием как бы подчиняет себе события, и они покорно служат его славе. Слабость войск, которыми оба командовали во время последних кампаний, и мощь неприятельских сил дали им новые возможности проявить доблесть и своими талантами возместить все, чего не хватало армии для успешного ведения войны. Смерть маршала Тюренна, вполне достойная его жизни, сопровождавшаяся множеством удивительных обстоятельств и случившаяся в минуту необычайной важности, - даже она представляется нам следствием боязни и неуверенности судьбы, у которой не хватило смелости решить удел Франции и Империи. {6} Но та же судьба, которая отнимает у принца Конде из-за его якобы ослабевшего здоровья командование войсками как раз в то время, когда он мог бы совершить дела столь важные, - разве не входит она в союз с природой ради того, чтобы мы теперь увидели этого великого человека, ведущего частную жизнь, проявляющего мирные добродетели и по-прежнему достойного славы? И разве, живя вдалеке от сражений, он менее блистателен, чем когда вел войско от победы к победе?
15. О КОКЕТКАХ И СТАРИКАХ
Понять человеческие вкусы задача вообще непростая, а уже вкусы кокеток - тем более: но, видимо, дело в том, что им приятна любая победа, которая хоть сколько-нибудь льстит тщеславию, поэтому недостойных побед для них не существует. Что касается меня, то, признаюсь, всего непостижимее мне кажется склонность кокеток к старикам, слывшим некогда дамскими угодниками. Эта склонность так ни с чем несообразна и вместе с тем обычна, что поневоле начинаешь искать, на чем же основано чувство и очень распространенное и, одновременно, несовместное с общепринятым мнением о женщинах. Предоставляю философам решать, не кроется ли за этим милосердное желание природы утешить стариков в их жалком состоянии и не посылает ли она им кокеток по той же своей предусмотрительности, по которой посылает одряхлевшим гусеницам крылья, чтобы они могли побыть мотыльками. Но, и не пытаясь проникнуть в тайны природы, можно, на мой взгляд, найти здравые объяснения извращенного вкуса кокеток к старикам. Прежде всего приходит в голову, что все женщины обожают чудеса, а какое чудо может больше ублажить их тщеславие, чем воскрешение мертвецов! Им доставляет удовольствие влачить стариков за своей колесницей, украшать ими свой триумф, оставаясь при том незапятнанными; более того, старики так же обязательны в их свите, как в минувшие времена были обязательны карлики, если судить по "Амадису". {1} Кокетка, при которой состоит старик, располагает покорнейшим и полезнейшим из рабов, имеет непритязательного друга и чувствует себя в свете спокойно и уверенно: он всюду ее хвалит, входит в доверие к мужу, являясь как бы порукой в благоразумии жены, вдобавок, если пользуется весом, оказывает тысячи услуг, вникая во все надобности и интересы ее дома. Если до него доходят слухи об истинных похождениях кокетки, он отказывается им верить, старается их рассеять, говорит, что свет злоречив, - еще бы, ему ли не знать, как трудно затронуть сердце этой чистейшей женщины! Чем больше ему удается снискать знаков расположения и нежности, тем он становится преданнее и осмотрительнее: к скромности его побуждает собственный интерес, ибо старик вечно боится получить отставку и счастлив тем, что его вообще терпят. Старику нетрудно убедить себя, что если уж он, вопреки здравому смыслу, стал избранником, значит, его любят, и он твердо верит, что это - награда за былые заслуги, и не перестает благодарить любовь за ее долгую память о нем.
Кокетка со своей стороны старается не нарушать своих обещаний, уверяет старика, что он всегда казался ей привлекательным, что, не встреть его, так никогда и не узнала бы любви, просит не ревновать и довериться ей; она признается, что не безразлична к светским развлечениям и беседе с достойными мужчинами, но если иной раз и бывает приветлива с несколькими сразу, то лишь из боязни выдать свое отношение к нему; что позволяет себе немного посмеяться над ним с этими людьми, побуждаемая желанием чаще произносить его имя или необходимостью скрывать истинные свои чувства; что, впрочем, воля его, она с радостью махнет на все рукой, только бы он был доволен и продолжал ее любить. Какой старик не поддастся на эти ласкательные речи, так часто вводящие в заблуждение молодых и любезных мужчин! К несчастью, по слабости, особенно свойственной старикам, которых когда-то любили женщины, он слишком легко забывает, что больше уже и не молод, и не любезен. Но я не уверен, что знание правды было бы ему полезнее, чем обман: по крайней мере, его терпят, забавляют, помогают забыть все горести. И пусть он становится общим посмешищем - это порою все же меньшее зло, чем тяготы и страдания пришедшей в упадок томительной жизни.
16. О РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ УМА
Могучий ум может обладать любыми свойствами, вообще присущими уму, но некоторые из них составляют его особую и неотъемлемую принадлежность: проницательность его не, знает пределов; он всегда равно и неустанно деятелен; зорко различает далекое, словно оно у него перед глазами; охватывает и постигает воображением грандиозное; видит и понимает мизерное; мыслит смело, широко, дельно, соблюдая во всем чувство меры; схватывает все до мельчайших подробностей и благодаря этому нередко обнаруживает истину, скрытую под таким густым покровом, что другим она незрима. Но, невзирая на эти редкостные свойства, самый могучий ум инок раз слабеет и мельчает, если им завладевают пристрастия.
Изящный ум мыслит всегда благородно, излагает свои воззрения без труда, ясно, приятно и непринужденно, выставляя их в выгодном свете и расцвечивая подобающими украшениями; он умеет понять чужой вкус и изгоняет из своих мыслей все бесполезное или могущее не понравиться другим.
Ум гибкий, покладистый, вкрадчивый знает, как обойти и преодолеть трудности, в нужных случаях легко подлаживается под чужие мнения, проникает в особенности ума и пристрастий окружающих и, блюдя выгоду тех, с кем вступает в сношения, не забывает и добивается своей собственной.
Здравый ум видит все в надлежащем свете, оценивает по заслугам, знает, как повернуть обстоятельства благоприятнейшей для себя стороной и твердо придерживается своих воззрений, ибо не сомневается в их правильности и основательности.
Деловой ум не надо путать с умом корыстным: можно отлично разбираться в делах, не гоняясь при этом за собственной выгодой. Иные люди ловко действуют в обстоятельствах, их не затрагивающих, но на редкость неловки, когда речь идет о них самих, между тем как другие, напротив, особой сметливостью не отличаются, однако из всего умеют извлечь выгоду.
Иногда ум самого серьезного склада сочетается со способностью к приятной и легкой беседе. Такой ум подобает и мужчинам и женщинам любого возраста. У молодых людей ум обычно веселый, насмешливый, но без всякого оттенка серьезности; поэтому они часто бывают утомительны. Роль записного забавника весьма неблагодарна, и ради похвал, которые иногда снискивает такой человек у окружающих, не стоит ставить себя в ложное положение, постоянно вызывая досаду этих же самых людей, когда у них дурное расположение духа.
Насмешливость - одно из самых привлекательных, равно как и самых опасных свойств ума. Остроумная насмешка неизменно забавляет людей, но так же неизменно они побаиваются того, кто слишком часто X ней прибегает. Тем не менее насмешка вполне дозволена, если она беззлобна и обращена главным образом на самих собеседников.
Склонность к шутке легко превращается в страсть к шутовству или издевке, и нужно обладать большим чувством меры, чтобы постоянно шутить, не впадая в одну из этих крайностей. Шутливость можно определить, как общую веселость, которая увлекает воображение, заставляя его все видеть в смешном свете; она может быть мягкой или язвительной, в зависимости от склада характера. Иные люди умеют подшучивать в форме изящной и лестной: они высмеивают лишь те недостатки ближних, в которых последние охотно признаются, под видом порицания преподносят похвалы, прикидываются, будто хотят скрыть достоинства собеседника, а между тем искусно выставляют их напоказ.
Тонкий ум весьма отличается от ума лукавого и всегда приятен своей непринужденностью, изяществом и наблюдательностью. Лукавый ум никогда не идет к цели напрямик, а ищет к ней путей потайных и окольных. Эти уловки недолго остаются неразгаданными, неизменно внушают опасения окружающим и редко приносят серьезные победы.
Между умом пылким и умом блестящим тоже есть различие: первый быстрее все схватывает и глубже проникает, второй отличается живостью, остротой и чувством меры.
Мягкий ум снисходителен и уживчив и всем нравится, если только он не слишком пресен.
Ум систематический погружается в рассмотрение предмета, не упуская ни одной подробности и соблюдая все правила. Такое внимание обычно ограничивает его возможности; однако иной раз оно совмещается с широким кругозором, и тогда ум, обладающий обоими этими свойствами, неизменно выше других.
"Изрядный ум" - определение, которым слишком злоупотребляли; хотя такого рода уму могут быть присущи перечисленные здесь свойства, но его приписывали столь великому множеству дурных рифмоплетов и скучных писак, что теперь слова "изрядный ум" чаще употребляют, чтобы кого-нибудь осмеять, нежели чтобы похвалить.
Некоторые эпитеты, прилагаемые к слову "ум", обозначают как будто одно и то же, тем не менее различие между ними есть, и сказывается оно в тоне и в манере их произносить; но так как тон и манеру описать невозможно, я не стану вдаваться в частности, не поддающиеся объяснению. Все употребляют эти эпитеты, отлично понимая, что они значат. Когда говорят о человеке - "он умен", или "он, конечно, умен", или "он весьма умен", или "он бесспорно умен", только тон и манера подчеркивают различие между этими выражениями, сходными на бумаге и все же относящимися к умам разного склада.
Порою говорят также, что у такого-то человека - "ум всегда на один лад", или "многообразный ум", или "всеобъемлющий ум". Можно быть вообще глупцом при несомненном уме, и можно быть неглупым человеком при уме самом незначительном. "Бесспорный ум" - выражение двусмысленное. Оно может подразумевать любое из упомянутых свойств ума, но иной раз в нем не содержится ничего определенного. Порою можно говорить довольно умно, а поступать глупо, обладать умом, но до крайности ограниченным, быть умным в одном, но неспособным к другому, быть бесспорно умным и ни к чему не пригодным, бесспорно умным и притом.несносным. Главное достоинство такого рода ума, видимо, в том, что он, случается, бывает приятен в беседе.
Хотя проявления ума бесконечно разнообразны, их, мне кажется, можно различать по таким признакам: столь прекрасные, что каждый способен понять и почувствовать их красоту; не лишенные красот и вместе с тем нагоняющие скуку; прекрасные и всем нравящиеся, хотя никто не может объяснить, почему; столь тонкие и изысканные, что мало кто способен оценить все их красоты; несовершенные, но заключенные в такую искусную форму, столь последовательно и изящно развитые, что вполне заслуживают восхищения.
17. О СОБЫТИЯХ ЭТОГО ВЕКА
Когда история осведомляет нас о том, что происходит в мире, она равно повествует о происшествиях важных и незначительных; сбитые подобным смешением, мы не всегда обращаем должное внимание на события необычные, которыми бывает отмечен каждый век. Но те, что порождены нынешним столетием, по моему суждению, затмевают необычностью все предыдущие. Вот мне и пришло на ум описать иные из этих событий, дабы привлечь к ним внимание тех, кто склонен размышлять на подобные темы.
Мария Медичи, королева Франции, супруга Генриха Великого, была матерею Людовика XIII, его брата Гастона, королевы испанской, {1} герцогини савойской {2} и королевы английской; {3} провозглашенная регентшей, она несколько лет управляла и королем, своим сыном, и всем королевством. Это она сделала Армана де Ришелье кардиналом и первым министром, от которого зависели все решения короля и судьбы государства. Ее достоинства и недостатки не были таковы, чтобы внушить кому-нибудь опасения, и, однако, эта монархиня, знавшая такое величие и окруженная таким блеском, вдова Генриха IV, мать стольких венценосных особ, по приказу короля, своего сына, была взята под стражу приспешниками кардинала Ришелье, обязанного ей своим возвышением. Другие ее дети, восседавшие на престолах, не пришли к ней на помощь, даже не осмелились дать ей приют в своих странах, и после десятилетних гонений она умерла в Кельне, в полной заброшенности, можно сказать, голодной смертью.
Анж де Жуайез, {4} герцог и пэр Франции, маршал и адмирал, молодой, богатый, любезный и счастливый, отказался от стольких житейских благ и вступил в орден капуцинов. Через несколько лет нужды государства призвали его снова к мирской жизни. Папа разрешил его от обета и приказал встать во главе королевской армии, сражавшейся с гугенотами. Четыре года командовал он войсками и постепенно вновь предался тем же страстям, которые властвовали над ним в молодости. Когда война закончилась, он вторично простился со светом и надел монашеское платье. Анж де Жуайез прожил долгую жизнь, исполненную благочестия и святости, но тщеславие, которое он одолел в миру, здесь, в монастыре, одолело его: он был избран настоятелем парижского монастыря, но так как кое-кто оспаривал его избрание, Анж де Жуайез решился пешком отправиться в Рим, невзирая на свою дряхлость и все тяготы, связанные с таким паломничеством; более того, когда по возвращении снова раздались протесты против его избрания, он вторично пустился в путь и умер, не добравшись до Рима, от усталости, горя и преклонных лет.
Трое португальских вельмож и семнадцать их друзей устроили в Португалии и подвластных ей индийских землях мятеж, {5} не опираясь при этом ни на свой народ, ни на чужеземцев и не имея сообщников при дворе. Эта кучка заговорщиков овладела королевским дворцом в Лиссабоне, свергла вдовствующую герцогиню Мантуанскую, регентшу, правившую за своего малолетнего сына, {6} и взбунтовала все королевство. Во время беспорядков погиб только Васконсельос, {7} испанский министр, и двое его слуг. Переворот этот был произведен в пользу герцога Браганза, {8} но без его участия. Он был провозглашен королем против собственной воли и оказался единственным португальцем, недовольным возведением на трон нового монарха. Он четырнадцать лет носил корону, ни проявив за эти годы ни особого величия, ни особых достоинств, и умер в своей постели, оставив в наследство детям безмятежно спокойное королевство.
Кардинал Ришелье самовластно правил Францией в годы царствования монарха, который передал в его руки всю страну, хотя не решался вверить свою особу. В свою очередь кардинал тоже не испытывал доверия к королю и избегал посещать его, опасаясь за свою жизнь и свободу. Тем не менее король принес в жертву мстительной злобе кардинала своего любимца Сен-Мара и не воспрепятствовал гибели того на эшафоте. Наконец, кардинал умирает в своей постели; он указывает в завещании, кого назначить на важнейшие государственные посты, и король, чье недоверие и ненависть к Ришелье достигли в ту пору высшего накала, так же слепо повинуется воле мертвого, как повиновался живому.
Можно ли не дивиться тому, что Анна-Мария-Луиза Орлеанская, {9} племянница короля Франции, богатейшая из некоронованных европейских принцесс, скупая, резкая в обхождении и высокомерная, столь знатная, что могла бы стать супругой любого из могущественнейших королей, дожив до сорока пяти лет, вздумала выйти замуж за Пюигильема, {10} младшего в роду Лозенов, неказистого собой, человека посредственного ума, чьи добродетели исчерпывались дерзостью и вкрадчивыми манерами. Всего поразительнее то, что безумное это решение Мадемуазель приняла из раболепства, из-за того, что Пюигильем был в милости у короля: желание стать супругой фаворита заменило ей страсть. Забыв свой возраст и высокое рождение, не любя Пюигильема, она тем не менее сделала ему такие авансы, которые были бы непростительны даже со стороны более молодой и менее родовитой особы, к тому же пылко влюбленной. Однажды Мадемуазель сказала Пюигильему, что могла бы выйти замуж лишь за одного-единственного человека на свете. Он стал настойчиво просить, чтобы она открыла, кто это такой; не будучи все же в силах вслух назвать его имя, она пожелала начертать свое признание алмазом на оконном стекле. Понимая, конечно, кого она имеет в виду, и, быть может, рассчитывая выманить у нее собственноручную записку могущую весьма пригодиться ему в дальнейшем, Пюигильем решил разыграть суеверного влюбленного - а это должно было прийтись очень по душе Мадемуазель - и заявил, что если она хочет, чтобы чувство это длилось вечно, то не следует писать о нем на стекле. Замысел его удался как нельзя лучше, и вечером Мадемуазель написала на бумаге слова: "Это вы". Она сама запечатала записку, но дело было в четверг и передать ее она смогла только после полуночи; поэтому, не желая уступать Пюигильему в щепетильности и боясь, что пятница окажется несчастливым днем, она взяла с него слово, что он сломает печать только в субботу - тогда ему и станет известна великая тайна. Честолюбие Пюигильема было таково, что он принял как должное эту неслыханную милость фортуны. Он не только решил воспользоваться прихотью Мадемуазель, но и имел дерзость рассказать об этом королю. Все хорошо знают, что, обладая, высокими и необычайными добродетелями, этот монарх был высокомерен и горд, как никто на свете. Тем не менее он не только не обрушил на Пюигильема громы и молнии за то, что тот осмелился сказать ему о своих притязаниях, но, напротив, позволил питать их и впредь; он даже дал согласие на то, чтобы делегация из четырех сановников испросила его соизволения на столь несообразный брак и чтобы об этом не были извещены ни герцог Орлеанский, ни принц Конде. Новость, быстро распространившись в свете, вызвала всеобщее недоумение и негодование. Король не сразу почувствовал, какой ущерб он нанес своему высочайшему имени и престижу. Он просто считал, что, по величию своему, может себе позволить в один прекрасный день вознести Пюигильема над знатнейшими вельможами страны, породниться с ним, невзирая на такое вопиющее неравенство, и сделать его первым пэром Франции и обладателем ренты в пятьсот тысяч ливров; более же всего привлекал его этот странный замысел тем, что давал возможность тайно насладиться всеобщим изумлением при виде того, какими доселе неслыханными благодеяниями он осыпает человека, которого любит и считает достойным. В течение трех суток Пюигильем вполне мог, воспользовавшись редкостной милостью фортуны, жениться на Мадемуазель, но, движимый тщеславием не менее редкостным, стал добиваться таких свадебных церемоний, какие могли бы иметь место только в том случае, если бы он был одного ранга с Мадемуазель: он желал, чтобы король и королева выступили свидетелями его брака, придав своим присутствием особый блеск этому событию. Исполненный беспримерной заносчивости, он занимался пустыми приготовлениями к свадьбе и меж тем упустил время, когда действительно мог бы утвердить свое счастье. Мадам де Монтеспан {11} хотя и ненавидела Пюигильема, но смирялась перед склонностью к нему короля и не противилась этому браку. Однако всеобщие толки вывели ее из бездействия, она указала королю на то, чего не видел он один, и побудила прислушаться к общественному мнению. Он узнал о недоумении послов, выслушал сетования и почтительные возражения вдовствующей герцогини Орлеанской {12} и всего королевского дома. Под воздействием всего этого король после долгих колебаний и с величайшей неохотой сказал Пюигильему, что не может дать открытого согласия на его брак с Мадемуазель, но тут же заверил его, что эта внешняя перемена не отразится на существе дела: запрещая над напором общественного мнения и скрепя сердце Пюигильему жениться на Мадемуазель, он вовсе не желает, чтобы этот запрет помешал его счастью. Король настаивал на том, чтобы Пюигильем тайно обвенчался, и обещал, что немилость, которая должна последовать за таким проступком, продлится не больше недели. Каковы бы ни были истинные чувства Пюигильема при этом разговоре, он заверил короля, что с радостью оказывается от всего, обещанного ему монархом, поскольку это может как-то повредить престижу его величества, тем более что нет на свете такого счастья, которое вознаградило бы его за недельную разлуку с государем. До глубины души тронутый такой покорностью, король не преминул сделать все от него зависящее, дабы помочь Пюигильему воспользоваться слабостью Мадемуазель, а Пюигильем со своей стороны сделал все от себя зависящее, дабы подчеркнуть, на какие жертвы готов ради своего повелителя. Руководили им при этом отнюдь не одни только бескорыстные чувства: он считал, что его образ действий навсегда расположил к нему короля и что теперь ему до скончания дней обеспечена монаршья милость. Тщеславие и вздорность довели Пюигильема до того, что он уже не хотел этого столь выгодного и возвышавшего его брака, поскольку не смел обставить празднества с той пышностью, о которой мечтал. Впрочем, более всего толкало его к разрыву с Мадемуазель непреодолимое отвращение к ней и нежелание быть ее супругом. Он рассчитывал извлечь существенные выгоды из ее страсти к нему, полагая, что, даже не став его женой, она презентует ему княжество Домб и герцогство Монпансье. Именно поэтому он вначале отказался от всех даров, которыми его хотел осыпать король. Но скупость и дурной характер Мадемуазель вместе с трудностями, с которыми была сопряжена передача Пюигильему таких огромных владений, показали ему бесплодность его замысла, и он поспешил принять щедроты короля, подарившего ему губернаторство Берри и ренту в пятьсот тысяч ливров. Но эти столь значительные блага отнюдь не удовлетворили притязаний Пюигильема. Он вслух выражал свое недовольство, и этим немедленно воспользовались его враги, особенно госпожа Монтеспан, чтобы наконец рассчитаться с ним. Он понимал свое положение, видел, что ему грозит немилость, но уже не мог совладать с собой и, вместо того чтобы поправить свои дела мягким, терпеливым, умелым обхождением с королем, держался заносчиво и дерзко. Пюигильем дошел до того, что осыпал короля упреками, наговорил ему резкостей и колкостей, даже сломал шпагу в его присутствии, заявив при этом, что больше никогда не обнажит ее на королевской службе. На госпожу де Монтеспан он обрушился с таким презрением и яростью, что ей ничего не оставалось, как погубить его, дабы не погибнуть самой. Вскоре он был взят под стражу и заточен в Пиньерольскую крепость; проведя много тяжких лет в темнице, он познал, какое это несчастье - потерять милость короля и из-за пустого тщеславия лишиться благ и почестей, которыми его дарил король - по своей снисходительности и Мадемуазель - по низменности своей натуры.
Альфонс VI, сын герцога Браганза, о котором я рассказывал выше, португальский король, сочетался браком во Франции с дочерью герцога де Немура, {13} совсем юной, не располагавшей ни большим богатством, ни большими связями. Вскоре эта королева замыслила расторгнуть свой брак с королем. По ее приказу он был взят под стражу, и те самые воинские части, которые накануне охраняли его как своего повелителя, теперь сторожили, как пленника. Альфонса VI сослали на один из островов его собственного государства, сохранив ему жизнь и даже королевский титул. Королева сочеталась браком с родным братом своего бывшего супруга и, будучи регентшей, передала ему всю полноту власти над страной, но без титула короля. Она спокойно наслаждалась плодами столь удивительного заговора, не нарушив добрых отношений с испанцами и не вызвав междоусобицы в королевстве.
Некий продавец лекарственных трав, по имени Мазаньелло, {14} взбунтовал неаполитанских простолюдинов и, разбив могущественное испанское войско, узурпировал королевскую власть. Он самовластно распоряжался жизнью, свободой и достоянием тех, кто был у него на подозрении, завладел таможнями, приказал отобрать у откупщиков все их деньги и все имущество, а затем распорядился сжечь эти несметные богатства на городской площади; ни один человек из беспорядочной толпы бунтарей не позарился на добро, нажитое, по их понятиям, греховно. Поразительное это правление продолжалось две недели и кончилось не менее поразительно, чем началось: тот самый Мазаньелло, который так успешно, блестяще и ловко совершил столь незаурядные деяния, внезапно потерял рассудок и через сутки умер в припадке буйного помешательства.
Шведская королева, {15} жившая в мире со своим народом и с соседними странами, любимая подданными, почитаемая чужеземцами, молодая, не обуреваемая благочестием, добровольно оставила свое королевство и стала жить, как частное лицо. Польский король {16} из того же дома, что и шведская королева, также отрекся от престола только потому, что он устал царствовать.
Лейтенант пехотной части, человек безродный и безвестный, {17} всплыл на поверхность в сорокапятилетнем возрасте, воспользовавшись смутой в стране. Он свергнул своего законного государя, {18} доброго, справедливого, снисходительного, отважного и щедрого, и, заручившись решением королевского парламента, приказал отрубить голову этому королю, превратил королевство в республику и десять лет был владыкой Англии; он держал другие государства в большем страхе и распоряжался своей собственной страной более самодержавно, чем любой из английских монархов; насладившись всей полнотой власти, он тихо и мирно скончался.
Голландцы, сбросив с себя бремя испанского владычества, образовали сильную республику и целое столетие, оберегая ее свободу, сражались со своими законными королями. Они очень многим были обязаны доблести и предусмотрительности принцев Оранских, {19} однако всегда опасались их притязаний и ограничивали их власть. В наше время эта республика, так ревниво относящаяся к своей мощи, отдает в руки нынешнего принца Оранского, {20} неопытного правителя и неудачливого полководца, то, в чем отказывала его предшественникам. Она не только возвращает ему владения, но и позволяет захватить власть, словно забыв, что он отдал на растерзание черни человека, который один против всех защищал свободу республики.
Испанская держава, так широко раскинувшаяся и внушавшая такое почтение всем монархам мира, находит теперь опору лишь в своих мятежных подданных и держится покровительством Голландии.
Молодой император, {21} слабовольный и доверчивый по натуре, игрушка в руках недалеких министров, становится за один день - как раз в ту пору, когда Австрийский царствующий дом находится в полном упадке, - повелителем всех германских государей, которые боятся его власти, но презирают его особу; он еще более неограничен в своей власти, чем был Карл V. {22}
Английский король, {23} малодушный, ленивый, занятый только погоней за удовольствиями, забывший об интересах страны и о тех примерах, которые мог бы почерпнуть из истории собственного семейства, в течение шести лет, невзирая на негодование всего народа и ненависть парламента, сохранял дружественные отношения с французским королем; он не только не возражал против завоеваний этого монарха в Нидерландах, но даже способствовал им, посылая туда свои войска. Этот дружеский союз препятствовал ему овладеть полнотой власти в Англии и расширить границы своей страны за счет фландрских и голландских городов и портов, от которых он упорно отказывался. Но именно тогда, когда он получил от французского короля значительные суммы денег и когда ему особенно нужна была поддержка в борьбе с собственными подданными, он внезапно и без всякого повода отрекается от всех прошлых обязательств и занимает враждебную позицию по отношению к Франции, хотя как раз в это время ему было и выгодно, и разумно держаться союза с ней! Столь неразумная и поспешная политика мгновенно лишила его возможности извлечь единственную выгоду из политики не менее неразумной и длившейся шесть лет; вместо того чтобы выступать посредником, помогающим обрести мир, он вынужден сам выпрашивать этот мир у французского короля наравне с Испанией, Германией и Голландией.
Когда принц Оранский просил у английского короля руки его племянницы, дочери герцога Йоркского, {24} тот отнесся к этому предложению весьма холодно, как и его брат, герцог Йоркский. Тогда принц Оранский, видя, какие препятствия встают на пути его замысла, тоже решил от него отказаться. Но вот в один, прекрасный день английский министр финансов, {25} побуждаемый своекорыстными интересами, боясь нападок членов парламента и дрожа за собственную безопасность, уговорил короля породниться с принцем Оранским, выдав за него свою племянницу, и выступить против Франции на стороне Нидерландов. Это решение было принято так молниеносно и держалось в такой тайне, что даже герцог Йоркский узнал о предстоящем бракосочетании своей дочери лишь за два дня до того, как оно состоялось. Все были повергнуты в полное недоумение тем, что король, десять лет рисковавший жизнью и короной ради сохранения дружественных отношений с Францией, неожиданно отказался от всего, чем прельщал его этот союз, - и поступил так только ради своего министра! С другой стороны, принц Оранский тоже сперва не проявлял особой заинтересованности в упомянутом весьма выгодном для него браке, благодаря которому он становился наследником английского престола и в будущем мог стать королем. Он думал лишь об укреплении своей власти в Голландии и, несмотря на недавнее военное поражение, рассчитывал так же прочно утвердиться во всех провинциях, как, по его мнению, утвердился в Зеландии. Но вскоре он убедился, что меры, им принятые, недостаточны: забавный случай открыл ему то, чего сам он разглядеть не сумел, а именно его положение в стране, которую он считал уже своей. На публичных торгах, где распродавался домашний скарб и собралось много народу, аукционист выкрикнул сборник географических карт и, так как все молчали, заявил, что книга эта куда более редкая, чем полагают присутствующие, и что карты в ней отменно точны: на них обозначена даже та река, о существовании которой не подозревал принц Оранский, когда проиграл Кассельское сражение. {26} Эта шутка, встреченная всеобщим рукоплесканием, и была одной из главных причин, побудивших принца искать нового сближения с Англией: он думал таким путем ублажить голландцев и присоединить еще одну мощную державу к стану врагов Франции. Но и сторонники этого брака, и его противники, видимо, не совсем понимали, в чем заключаются их подлинные интересы: английский министр финансов, уговаривая государя выдать племянницу за принца Оранского и расторгнуть союз с Францией, хотел тем самым задобрить парламент и оградить себя от его нападок; английский король полагал, что, опираясь на принца Оранского, укрепит свою власть в государстве, и немедленно потребовал у народа денег, якобы для того, чтобы победить и принудить к миру французского короля, а на самом деле - чтобы истратить их на собственные прихоти; принц Оранский замышлял с помощью Англии подчинить себе Голландию; Франция опасалась, что брак, идущий вразрез со всеми ее интересами, нарушит равновесие, бросив Англию в неприятельский лагерь. Но уже через полтора месяца стало ясно, что все предположения, связанные с браком принца Оранского, не оправдались: Англия и Голландия навсегда утратили доверие друг к другу, ибо каждая видела в этом браке оружие, направленное именно против нее; английский парламент, продолжая нападать на министров, готовился напасть на короля; Голландия, утомленная войной и полная тревоги за свою свободу, раскаивается, что доверилась молодому честолюбцу, наследному принцу английской короны; французский король, который вначале рассматривал указанный брак как враждебный своим интересам, сумел воспользоваться им для того, чтобы посеять рознь среди неприятельских держав, и теперь мог бы без труда захватить Фландрию, не предпочти он славе завоевателя славу миротворца.
Если этот век не менее обилен удивительными происшествиями, чем века прошедшие, то, надо сказать, по части преступлений у него над ними печальное преимущество. Даже Франция, которая всегда ненавидела их и, опираясь на особенности характера своих граждан, на религию и примеры, преподанные ныне правящим монархом, всячески боролась с ними, даже она стала теперь ареной злодеяний, ничуть не уступающих тем, которые, как гласят история и предания, совершались в глубокой древности. Человек неотделим от пороков; во все времена он рождается своекорыстным, жестоким, развращенным. Но если бы лица, чьи имена всем известны, жили в те далекие века, разве стали бы сейчас вспоминать о бесстыдном распутнике Гелиогабале, {27} о греках, приносящих дары, {28} или об отравительнице, братоубийце и детоубийце Медее? {29}
18. О НЕПОСТОЯНСТВЕ
У меня нет намерения заниматься здесь оправданием непостоянства, тем более если оно проистекает из одной только ветрености; но было бы несправедливостью приписать единственно ему все перемены, которым подвержена любовь. Ее первоначальный убор, нарядный и яркий, спадает с нее так же неприметно, как весенний цвет с плодовых деревьев; люди не виноваты в этом виновато одно лишь время. При зарождении любви внешность обольстительна, чувства согласны, человек жаждет нежности и наслаждений, хочет нравиться предмету своей любви, ибо сам от него в восторге, всеми, силами стремится показать, как бесконечно он его ценит. Но постепенно чувства, казавшиеся навек неизменными, становятся иными, нет ни прежнего пыла, ни очарования новизны, красота, играющая столь важную роль в любви, как бы тускнеет или перестает обольщать, и, хотя слово "любовь" все еще не сходит с уст, люди и отношения их уже не те, что были; они пока что верны своим обетам, но только по велению чести, по привычке, по нежеланию признаться себе в собственном непостоянстве.
Разве люди могли бы влюбляться, если бы с первого взгляда видели друг друга такими, какими видят по прошествии лет? Или разлучаться, если бы этот первоначальный взгляд остался неизменным? Гордость, почти всегда правящая нашими склонностями и не знающая пресыщения все время находила бы новые поводы ублажать себя лестью, зато постоянство утратило бы цену, ничего не значило бы для столь безмятежны: отношений; нынешние знаки благосклонности были бы не менее пленительны, чем прежние, и память не находила бы между ними никакого различия; непостоянства попросту не существовало бы, и люди любили бы друг друга все с той же пылкостью, ибо у них были бы все те же основания для любви.
Перемены в дружбе вызваны почти теми же причинами, что и пере мены в любви; хотя любовь полна одушевления и приятности, тогда как дружба должна быть уравновешеннее, строже, взыскательнее, обе от подчинены схожим законам, и время, меняющее и наши устремления, и нрав, равно не щадит ни той, ни другой. Люди так слабодушны и непостоянны, что не в силах долго выдерживать бремя дружбы. Конечно древность дала нам ее примеры, но в наши дни настоящая дружба встречается едва ли не реже, чем настоящая любовь.
19. ОБ УДАЛЕНИИ ОТ СВЕТА
Мне пришлось бы исписать слишком много страниц, начни я сейчас перечислять все очевидные причины, побуждающие старых людей удаляться от света: перемены в состоянии духа и во внешности, равно как телесная немощь неощутимо отталкивают их - и в этом они схожи с большинством животных - от общества им подобных. Гордость, неразлучная спутница себялюбия, заступает тут место разума: будучи уже не в состоянии ублажать себя тем, чем ублажаются другие, старики на опыте знают и цену радостям, столь желанным в юности, и невозможность предаваться им впредь. По прихоти ли судьбы, вследствие ли зависти и не справедливости окружающих, или из-за собственных промахов, но старикам недоступны способы обретения почестей, наслаждений, известности кажущиеся юношам такими легкими. Однажды сбившись с дороги, ведущей ко всему, что возвеличивает людей, они уже не могут на нее вернуться: она слишком длинна, трудна, полна препятствий, которые им отягченным годами, мнятся неодолимыми. Старики охладевают к дружбе и не только потому, что, быть может, никогда и не ведали ее, но потом) еще, что похоронили очень многих друзей, не успевших или не имевших случая предать дружбу; с тем большей легкостью они убеждают себя что умершие были им куда преданней, чем оставшиеся в живых. Они уже не причастны к тем главным благам, которые прежде разжигали их вожделения, почти непричастны даже к славе: та, что была завоевана, ветшает со временем, и, случается, люди, старея, теряют все, обретенное прежде. Каждый день уносит крупицу их существа, и в - них остается слишком мало сил для наслаждения еще не утерянным, не говоря уже о погоне за желаемым. Впереди они видят только скорби, недуги, увядание; все ими испытано, ничто не имеет прелести новизны. Время неприметно оттесняет их от того места, откуда им хотелось бы смотреть на окружающих и где они сами являли бы внушительное зрелище. Иных счастливцев еще терпят в обществе, других откровенно презирают. Им остается единственный благоразумный выход - укрыть от света то, что некогда они, быть может, слишком выставляли напоказ. Поняв, что все их желания бесплодны, они постепенно обретают вкус к предметам немым и бесчувственным - к постройкам, к сельскому хозяйству, к экономическим наукам, к ученым трудам, ибо тут они по-прежнему сильны и свободны: берутся за эти занятия или бросают их, решают, как им быть и что делать дальше. Они могут исполнить любое свое желание и зависят уже не от света, а только от самих себя. Люди, обладающие мудростью, с пользой для себя употребляют остаток дней своих и, почти не связанные с этой жизнью, становятся достойными жизни иной и лучшей. Другие же хотя бы избавляются от посторонних свидетелей своего ничтожества; они погружены в собственные недуги; малейшее облегчение служит им заменою счастья, а их слабеющая плоть, более разумная, чем они сами, уже не терзает их мукой неисполнимых желаний. Постепенно они забывают свет, с такой готовностью позабывший их, находят в уединении даже нечто утешительное для своего тщеславия и, терзаемые скукой, сомнениями, малодушием, влачат, повинуясь голосу благочестия или разума, а чаще всего по привычке, бремя томительной и безотрадной жизни.
Время, когда жил Франсуа де Ларошфуко, обычно называют "великим веком" французской литературы. Его современниками были Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Паскаль, Буало. Но жизнь автора "Максим" мало походила на жизнь создателей "Тартюфа", "Федры" или "Поэтического искусства". Да и профессиональным писателем он именовал себя только в шутку, с некоторой долей иронии. В то время как его собратья по перу были вынуждены искать себе знатных покровителей, чтобы существовать, герцог де Ларошфуко часто тяготился особым вниманием, которое оказывал ему король-солнце. Получая большой доход с обширных поместий, он мог не беспокоиться о вознаграждении за свои литературные труды. А когда писатели и критики, его современники, были поглощены жаркими спорами и резкими столкновениями, отстаивая свое понимание драматургических законов, - совсем не о тех и отнюдь не о литературных схватках и баталиях вспоминал на покое и размышлял наш автор. Ларошфуко был не только писателем и не только философом-моралистом, он был военачальником, политическим деятелем. Сама его жизнь, полная приключений, воспринимается ныне как захватывающая повесть. Впрочем, он сам и рассказал ее - в своих "Мемуарах".
Род Ларошфуко считался во Франции одним из наиболее древних - он вел свое начало с XI века. Французские короли не раз официально называли сеньоров де Ларошфуко "своими дорогими кузенами" и поручали им почетные должности при дворе. При Франциске I, в XVI в., Ларошфуко получают графский титул, а при Людовике XIII - титул герцога и пэра. Эти высшие титулы делали французского феодала постоянным членом Королевского совета и Парламента и полновластным хозяином в своих владениях, с правом судопроизводства. Франсуа VI герцог де Ларошфуко, до смерти отца (1650) по традиции носивший имя принца де Марсийака, родился 15 сентября 1613 г. в Париже. Его детство прошло в провинции Ангумуа, в замке Вертей, основной резиденции фамилии. Воспитание и обучение принца де Марсийака, равно как и одиннадцати его младших братьев и сестер, было достаточно небрежным. Как и полагалось провинциальным дворянам, он занимался преимущественно охотой и военными упражнениями. Но впоследствии, благодаря занятиям философией и историей, чтению классиков, Ларошфуко, по отзывам современников, становится одним из самых ученых людей в Париже.
В 1630 г. принц де Марсийак появился при дворе, а вскоре принял участие в Тридцатилетней войне. Неосторожные слова о неудачной кампании 1635 г. привели к тому, что, как и некоторые другие дворяне, он был выслан в свои поместья. Там уже несколько лет жил его отец, Франсуа V, попавший в опалу за участие в мятеже герцога Гастона Орлеанского, "постоянного вождя всех заговоров". Юный принц де Марсийак с грустью вспоминал о своем пребывании при дворе, где он принял сторону королевы Анны Австрийской, которую первый министр кардинал Ришелье подозревал в связях с испанским двором, т. е. в государственной измене. Позднее Ларошфуко скажет о своей "естественной ненависти" к Ришелье и о неприятии "ужасного образа его правления": это будет итогом жизненного опыта и сформировавшихся политических взглядов. Пока же он полон рыцарской верности королеве и ее гонимым друзьям. В 1637 г. он возвращается в Париж. Вскоре он помогает мадам де Шеврез, подруге королевы, знаменитой политической авантюристке, бежать в Испанию, за что был заключен в Бастилию. Тут он имел возможность общаться с другими заключенными, среди которых было много знатных дворян, и получил первое политическое воспитание, усвоив мысль, что "несправедливое правление" кардинала Ришелье имело целью лишить аристократию от века данных привилегий и былой политической роли.
4 декабря 1642 г. умирает кардинал Ришелье, а в мае 1643 г. - король Людовик XIII. Регентшей при малолетнем Людовике XIV назначается Анна Австрийская, а во главе Королевского совета неожиданно для всех оказывается кардинал Мазарини, продолжатель дела Ришелье. Воспользовавшись политической неурядицей, феодальная знать требует восстановления отнятых у нее былых прав и привилегий. Марсийак вступает в так называемый заговор Высокомерных (сентябрь 1643 г.), а по раскрытии заговора вновь отправляется в армию. Он сражается под началом первого принца крови, Луи де Бурброна, герцога Энгиенского (с 1646 г. - принца Конде, прозванного впоследствии Великим за победы в Тридцатилетней войне). В эти же годы Марсийак знакомится с сестрой Конде, герцогиней де Лонгвиль, которая вскоре станет одной из вдохновительниц Фронды и долгие годы будет близким другом Ларошфуко.
Марсийак серьезно ранен в одном из сражений и вынужден вернуться в Париж. Пока он воевал, отец купил ему должность губернатора провинции Пуату; губернатор являлся наместником короля в своей провинции: в его руках было сосредоточено все военное и административное управление. Еще до отъезда новоиспеченного губернатора в Пуату кардинал Мазарини пытался привлечь его на свою сторону обещанием так называемых луврских почестей: права табурета его жене (т. е. права сидеть в присутствии королевы) и права въезда во двор Лувра в карете.
Провинция Пуату, как и многие другие провинции, бунтовала: налоги ложились на население невыносимым бременем. Бунт назревал и в Париже. Начиналась Фронда. Интересы парижского парламента, который возглавил Фронду на первом ее этапе, во многом совпадали с интересами знати, примкнувшей к восставшему Парижу. Парламент хотел вернуть себе былую свободу при исполнении своих полномочий, аристократия, пользуясь малолетством короля и всеобщим недовольством, стремилась захватить верховные должности государственного аппарата, чтобы безраздельно распоряжаться страной. Единодушным было желание лишить Мазарини власти и выслать его из Франции как чужеземца. Во главе восставших дворян, которых стали называть фрондерами, оказались самые именитые люди королевства.
Марсийак присоединился к фрондерам, самовольно оставил Пуату и возвратился в Париж. Свои личные претензии и причины участия в войне против короля он объяснил в "Апологии принца Марсийака", которая была Произнесена в парижском парламенте (1648). Ларошфуко говорит в ней о своем праве на привилегии, о феодальной чести и совести, о заслугах перед государством и королевой. Он обвиняет Мазарини в тяжелом положении Франции и добавляет, что его личные несчастья тесно связаны с бедами отчизны, а восстановление попранной справедливости будет благом для всего государства. В "Апологии" Ларошфуко еще раз проявилась специфическая особенность политической философии восставшей знати: убеждение в том, что ее благополучие и привилегии составляют благополучие всей Франции. Ларошфуко утверждает, что не мог назвать Мазарини своим врагом прежде, чем тот не был провозглашен врагом Франции.
Едва начались беспорядки, королева-мать и Мазарини оставили столицу, а вскоре королевские войска осадили Париж. Между двором и фрондерами начались переговоры о мире. Парламент, напуганный размерами всеобщего возмущения, отказался от борьбы. Мир был подписан 11 марта 1649 г. и стал своего рода компромиссом между восставшими и короной.
Подписанный в марте мир никому не казался прочным, ибо никого не удовлетворил: Мазарини оставался главою правительства и проводил прежнюю абсолютистскую политику. Новая гражданская война была вызвана арестом принца Конде и его единомышленников. Началась Фронда принцев, длившаяся больше трех лет (январь 1650г.-июль 1653г.). Это последнее военное восстание знати против новых государственных порядков приняло широкий размах.
Герцог де Ларошфуко отправляется в свои владения и собирает там значительное войско, которое объединяется с другими феодальными ополчениями. Соединенные силы мятежников направились в провинцию Гиень, избрав центром город Бордо. В Гиени не утихали народные волнения, которые поддерживались местным парламентом. Восставшую знать, особенно привлекало удобное географическое положение города и его близость к Испании, которая внимательно следила за нарождающимся мятежом и обещала повстанцам свою помощь. Следуя феодальной морали, аристократы отнюдь не считали, что совершают государственную измену, вступая в переговоры с иностранной державой: старинные установления давали им право переходить на службу к другому суверену.
Королевские войска подошли к Бордо. Талантливый военачальник и искусный дипломат, Ларошфуко стал одним из руководителей обороны. Бои шли с переменным успехом, но королевская армия оказалась сильнее. Первая война в Бордо закончилась миром (1 октября 1650 г.), который не удовлетворил Ларошфуко, ибо принцы по-прежнему находились в тюрьме. На самого герцога распространялась амнистия, но он был лишен должности губернатора Пуату и получил приказ отправиться в свой замок Вертей, разоренный королевскими солдатами. Ларошфуко принял это требование с великолепным равнодушием, - замечает современник. Весьма лестную характеристику дает Ларошфуко и Сент-Эвремон: "Его мужество и достойное поведение делают его способным к любому делу... Ему не свойственна корысть, поэтому и неудачи его являются лишь заслугой. В какие бы сложные условия ни поставила его судьба, он никогда не пойдет на низости".
Борьба за освобождение принцев продолжалась. Наконец, 13 февраля 1651 г. принцы получили свободу Королевская декларация восстанавливала их во всех правах, должностях и привилегиях. Кардинал Мазарини, подчиняясь указу Парламента, удалился в Германию, но тем не менее продолжал оттуда управлять страной - "так же, как если бы он жил в Лувре". Анна Австрийская, чтобы избежать нового кровопролития, старалась привлечь знать на свою сторону, давая щедрые обещания. Придворные группировки легко меняли свой состав, их участники предавали друг друга в зависимости от личных интересов, и это приводило Ларошфуко в отчаяние. Королева все же добилась разделения недовольных: Конде порвал с остальными фрондерами, уехал из Парижа и начал готовиться к гражданской войне, третьей за столь небольшое время. Королевская декларация от 8 октября 1651 г. объявляла принца Конде и его сторонников государственными изменниками; в их числе был и Ларошфуко. В апреле 1652 г. армия Конде подошла к Парижу. Принцы старались объединиться с Парламентом и муниципалитетом и одновременно вели переговоры с двором, добиваясь для себя новых преимуществ.
Между тем и королевские войска подошли к Парижу. В битве у стен города в Сент-Антуанском предместье (2 июля 1652 г.) Ларошфуко был тяжело ранен выстрелом в лицо и едва не потерял зрение. О его мужестве современники вспоминали очень долго.
Несмотря на успех в этом сражении, положение фрондеров ухудшалось: раздоры усиливались, иностранные союзники отказали в помощи. Парламент, получивший приказ оставить Париж, раскололся. Дело довершила новая дипломатическая хитрость Мазарини, который, вернувшись было во Францию, сделал вид, что вновь отправляется в добровольное изгнание, жертвуя своими интересами ради всеобщего примирения. Это давало возможность начать мирные переговоры, и молодой Людовик XIV 21 октября 1652г. торжественно вступил в мятежную столицу. Вскоре вернулся туда и торжествующий Мазарини. Парламентской и дворянской Фронде пришел конец.
По амнистии Ларошфуко должен был оставить Париж и отправиться в ссылку. Тяжелое состояние здоровья после ранения не позволяло ему участвовать в политических выступлениях. Он возвращается в Ангумуа, занимается хозяйством, приведенным в полный упадок, поправляет разрушенное здоровье и размышляет над только что пережитыми событиями. Плодом этих раздумий стали "Мемуары", написанные в годы ссылки и изданные в 1662 г.
По признанию Ларошфуко, он писал "Мемуары" лишь для нескольких близких друзей и не хотел делать свои записки публичным достоянием. Но одна из многочисленных копий была без ведома автора напечатана в Брюсселе и вызвала настоящий скандал, особенно в окружении Конде и мадам де Лонгвиль.
"Мемуары" Ларошфуко влились в общую традицию мемуарной литературы XVII столетия. Они подводили итог времени, полному событий, надежд и разочарований, и, так же как другие мемуары эпохи, имели определенную дворянскую направленность: задачей их автора было осмыслить свою личную деятельность как служение государству и доказать фактами справедливость своих взглядов.
Ларошфуко писал свои воспоминания в "праздности, вызванной опалой". Рассказывая о событиях своей жизни, он хотел подвести итоги размышлениям последних лет и понять исторический смысл того общего дела, которому он принес столько бесполезных жертв. Он не хотел писать о самом себе. Принц Марсийак, фигурирующий в "Мемуарах" обычно в третьем лице, появляется только иногда, когда принимает непосредственное участие в описываемых событиях. В этом смысле "Мемуары" Ларошфуко очень отличаются от "Мемуаров" его "старого врага" кардинала Реца, который сделал себя главным героем своего повествования.
Ларошфуко неоднократно говорит о беспристрастии своего рассказа. Действительно, он описывает события, не позволяя себе слишком личных оценок, но его собственная позиция проявляется в "Мемуарах" вполне отчетливо.
Принято считать, что Ларошфуко примкнул к восстаниям как оскорбленный придворными неудачами честолюбец, а также из любви к приключениям, столь свойственной всякому дворянину того времени. Однако причины, приведшие Ларошфуко в лагерь фрондеров, носили более общий характер и были основаны на твердых принципах, которым он оставался верен всю жизнь. Усвоив политические убеждения феодальной знати, Ларошфуко с юности ненавидел кардинала Ришелье и считал несправедливым "жестокий образ его правления", который стал бедствием для всей страны, ибо "знать была принижена, а народ задавлен налогами". Мазарини был продолжателем политики Ришелье, а потому и он, по мнению Ларошфуко, вел Францию к гибели.
Так же как многие его единомышленники, он считал, что аристократия и народ связаны "взаимными обязательствами", и свою борьбу за герцогские привилегии рассматривал как борьбу за всеобщее благополучие и свободу: ведь эти привилегии добыты службой родине и королю, и возвратить их - значит восстановить справедливость, ту самую, которая должна определять политику разумного государства.
Но, наблюдая своих соратников-фрондеров, он с горечью увидел "бесчисленное множество неверных людей", готовых на любой компромисс и предательство. Положиться на них нельзя, потому что они, "сперва примыкая к какой-нибудь партии, обычно предают ее или покидают, следуя собственным страхам и интересам". Своей разобщенностью и эгоизмом они губили общее, святое в его глазах дело спасения Франции. Знать оказалась неспособной выполнить великую историческую миссию. И хотя сам Ларошфуко примкнул к фрондерам после того, как ему отказали в герцогских привилегиях, современники признавали за ним верность общему делу: его никто не мог упрекнуть в измене. До конца жизни он оставался предан своим идеалам и объективен в отношении к людям. В этом смысле характерна неожиданная, на первый взгляд, высокая оценка деятельности кардинала Ришелье, заканчивающая первую книгу "Мемуаров": величие намерений Ришелье и умение претворять их в жизнь должны заглушить частное недовольство, его памяти необходимо воздать хвалу, столь справедливо заслуженную. То, что Ларошфуко понял огромные заслуги Ришелье и сумел подняться над личными, узко кастовыми и "нравственными" оценками, свидетельствует не только о его патриотизме и широком государственном кругозоре, но и об искренности его признаний в том, что им руководили не личные цели, а мысли о благе государства.
Жизненный и политический опыт Ларошфуко стал основой его философских взглядов. Психология феодала показалась ему типичной для человека вообще: частное историческое явление превращается во всеобщий закон. От политической злободневности "Мемуаров" его мысль постепенно обращается к извечным основам психологии, разработанным в "Максимах".
Когда "Мемуары" вышли в свет, Ларошфуко жил в Париже: он поселяется там с конца 1650-х годов. Постепенно забываются его прежние вины, недавний мятежник получает полное прощение. {Свидетельством окончательного прощения было пожалование его в члены ордена Святого Духа 1 января 1662 г.} Король назначает ему солидную пенсию, сыновья его занимают выгодные и почетные должности. Он редко появляется при дворе, но, по свидетельству мадам де Севинье, король-солнце всегда дарил его особым вниманием, а слушать музыку усаживал рядом с мадам де Монтеспан.
Ларошфуко становится постоянным посетителем салонов мадам де Сабле и, позднее, мадам де Лафайет. С этими салонами и связаны "Максимы", навсегда прославившие его имя. Работе над ними был посвящен весь остаток жизни писателя. "Максимы" приобрели известность, и с 1665 по 1678 год автор издал свою книгу пять раз. Он признан крупным писателем и большим знатоком человеческого сердца. Перед ним открываются двери Французской Академии, однако он отказывается участвовать в соискании почетного звания будто бы из робости. Возможно, что причиной отказа было нежелание прославлять Ришелье в торжественной речи при приеме в Академию.
К моменту начала работы Ларошфуко над "Максимами" в обществе произошли большие перемены: время восстаний закончилось. Особую роль в общественной жизни страны стали играть салоны. Во второй половине XVII века они объединяли людей различного общественного положения - придворных и литераторов, актеров и ученых, военных и государственных деятелей. Здесь складывалось общественное мнение кругов, так или иначе участвовавших в государственной и идеологической жизни страны или в политических интригах двора.
Каждый салон имел свое лицо. Так, например, те, кто интересовался наукой, особенно физикой, астрономией или географией, собирались в салоне мадам де Ла Саблиер. Другие салоны объединяли людей, близких к янгенизму. После неудачи Фронды во многих салонах довольно отчетливо проявлялась оппозиция абсолютизму, принимавшая различные формы. В салоне мадам де Ла Саблиер, например, господствовало философское свободомыслие, и для хозяйки дома Франсуа Бернье, знаменитый путешественник, написал "Краткое изложение философии Гассенди" (1664-1666). Интерес знати к вольнодумной философии объяснялся тем, что в ней видели своеобразную оппозицию официальной идеологии абсолютизма. Философия янсенизма привлекала посетителей салонов тем, что имела свой, особый взгляд на моральную природу человека, отличный от учений ортодоксального католицизма, вступившего в союз с абсолютной монархией. Бывшие фрондеры, потерпев военное поражение, в среде единомышленников высказывали недовольство новыми порядками в изящных беседах, литературных "портретах" и остроумных афоризмах. Король с опаской относился и к янсенистам, и к вольнодумцам, не без основания видя в этих учениях глухую политическую оппозицию.
Наряду с салонами учеными и философскими были и салоны чисто литературные. Каждый отличался особыми литературными интересами: в одних культивировался жанр "характеров", в других - жанр "портретов". В салоне мадемуазель де Монпансье, дочери Гастона Орлеанского, бывшей активной фрондерки, предпочитали портреты. В 1659 г. во втором издании сборника "Галерея портретов" был опубликован и "Автопортрет" Ларошфуко, его первое напечатанное произведение.
Среди новых жанров, которыми пополнялась моралистическая литература, самым распространенным был жанр афоризмов, или максим. Максимы культивировались, в частности, в салоне маркизы де Сабле. Маркиза слыла женщиной умной и образованной, занималась политикой. Она интересовалась литературой, и ее имя было авторитетным в литературных кругах Парижа. В ее салоне велись дискуссии на темы морали, политики, философии, даже физики. Но больше всего посетителей ее салона привлекали проблемы психологии, анализ тайных движений человеческого сердца. Тема беседы выбиралась заранее, так что каждый участник готовился к игре, обдумывая свои мысли. От собеседников требовалось умение дать тонкий анализ чувств, точное определение предмета. Чутье языка помогало выбрать из множества синонимов наиболее подходящий, подыскать для своей мысли сжатую и четкую форму - форму афоризма. Перу самой хозяйки салона принадлежат книга афоризмов "Поучение детям" и два сборника изречений, опубликованные посмертно (1678), "О дружбе" и "Максимы". Академик Жак Эспри, свой человек в доме мадам де Сабле и друг Ларошфуко, вошел в историю литературы сборником афоризмов "Ложность человеческих добродетелей". Так первоначально возникли и "Максимы" Ларошфуко. Салонная игра подсказала ему форму, в которой он смог выразить свои взгляды на природу человека и подвести итоги долгим размышлениям.
Долгое время в науке бытовало мнение о несамостоятельности максим Ларошфуко. Чуть ли не в каждой максиме находили заимствование из каких-то других изречений, подыскивали источники или прототипы. При этом назывались имена Аристотеля, Эпиктета, Цицерона, Сенеки, Монтеня, Шаррона, Декарта, Жака Эспри и др. Говорили также и о народных пословицах. Число таких параллелей можно было бы продолжить, но внешнее сходство не есть доказательство заимствования или несамостоятельности. С другой стороны, действительно, трудно было бы найти афоризм или мысль, совершенно непохожие на все, что им предшествовало. Ларошфуко что-то продолжал и вместе с тем начинал что-то новое, что привлекало к его творчеству интерес и делало "Максимы" в известном смысле вечной ценностью.
"Максимы" требовали от автора напряженного и непрерывного труда. В письмах к мадам де Сабле и к Жаку Эспри Ларошфуко сообщает все новые и новые максимы, просит совета, ждет одобрения и насмешливо заявляет, что желание составлять сентенции распространяется, как насморк. 24 октября 1660 г. в письме к Жаку Эспри он признается: "Я настоящий писатель, раз начал говорить о своих произведениях". Сегре, секретарь мадам де Лафайет, заметил как-то, что отдельные максимы Ларошфуко перерабатывал больше тридцати раз. Все пять изданий "Максим", выпущенных автором (1665, 1666, 1671, 1675, 1678 гг.), несут следы этой напряженной работы. Известно, что от издания к изданию Ларошфуко освобождался именно от тех афоризмов, которые прямо или косвенно напоминали чье-либо высказывание. Ему, пережившему разочарование в соратниках по борьбе и ставшему свидетелем крушения дела, которому отдал так много сил, было что сказать своим современникам, - это был человек с вполне сложившимся мировоззрением, которое уже нашло свое первоначальное выражение в "Мемуарах". "Максимы" Ларошфуко явились результатом его долгих размышлений над прожитыми годами. События жизни, столь увлекательной, но и трагической, ибо на долю Ларошфуко выпало лишь сожалеть о недостигнутых идеалах, были осознаны и переосмыслены будущим знаменитым моралистом и стали предметом его литературного творчества.
Смерть застала его в ночь на 17 марта 1680 г. Он умер в своем особняке на улице Сены от жестокого приступа подагры, которая терзала его с сорокалетнего возраста. Боссюэ принял его последний вздох.