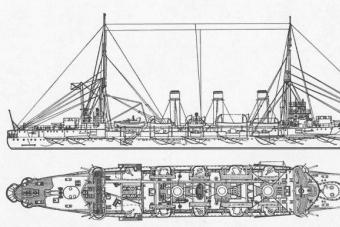Церемония прощания с писателем и общественным деятелем Александром Солженицыным, скончавшимся в ночь на понедельник на 90-м году жизни, пройдет во вторник в Российской академии наук на Ленинском проспекте, сообщили РИА Новости в Общественном фонде Солженицына.
Известный русский писатель, нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын ‑ автор многих произведений об истории России.
Первое же произведение Александра Солженицына ‑ рассказ "Один день Ивана Денисовича", опубликованный в "Новом мире" в 1962 году, принес ему всемирную славу. Потом увидели свет рассказы "Матренин двор", "Случай на станции Кочетовка", "Для пользы дела" и "Захар-Калита". На этом публикации прекратились, произведения писателя выходили в самиздате и за рубежом.
По статистике пик читательского интереса к Солженицыну пришелся на 1988‑1993 годы, когда его книги печатались миллионными тиражами. Так, например, в 1989 году "Новый мир" выпустил сокращенный журнальный вариант «Архипелаг ГУЛАГ» тиражом в 1,6 млн. экземпляров. Роман «В круге первом» с 1990 по 1994 год издавался десятью (!) различными российскими издательствами суммарным тиражом в 2,23 млн. экземпляров. «Раковый корпус» был переиздан в это же время девять раз. Но все рекорды побил манифест «Как нам обустроить Россию», изданный в сентябре 1990 года общим тиражом в 27 млн. экземпляров.
В последние годы интерес к этому автору несколько уменьшился. Эпопея "Красное Колесо" уже в 1997 году была издана только в количестве 30 тыс. экземпляров.
В 2006 году издательство "Время" подписало с Солженицыным договор об издании в течение 2006‑2010 годов его собрания сочинений в 30 томах ‑ первого в России и в мире. В конце 2006 года вышли три тома Собрания сочинений тиражом три тысячи экземпляров. В соответствии с договором с издательством, по мере реализации каждого из томов книги будут допечатываться в нужном количестве.
Публикация Собрания сочинений Солженицына началась с выпуска первого, седьмого и восьмого тома. Такая непоследовательность связана с тем, что писателю было очень важно внести последние авторские правки и увидеть напечатанной эпопею «Красное колесо». Она планировалась как раз на 7‑й и 8‑й том. Именно «Красное колесо», где Солженицын подробно исследует один из самых сложных и драматичных периодов в жизни России ‑ историю социалистической революции 1917 года, писатель считал главной книгой в своем творчестве.
Наиболее известные произведения писателя
Роман-эпопея «Красное колесо».
Первая книга эпопеи ‑ роман "Август четырнадцатого", вышел в 1972 году на английском языке. Первое издание в России ‑ Воениздат, 1993 год (в 10 томах), репринтное воспроизведение с собрания сочинений А. Солженицына (YMCA‑PRESS, Вермонт‑Париж, тт. 11 ‑ 20, 1983 ‑ 1991).
Основное литературное произведение Солженицына. Сам автор определил жанр, как «повествованье в отмеренных сроках».
По словам самого Солженицына, он потратил всю жизнь на изучение периода, относящегося к началу ХХ века. «В «Красном колесе» ‑ сгусток этого всего. Я постарался не пропустить ни одного факта. Я нашел закон революции ‑ когда раскручивается это грандиозное колесо, оно захватывает весь народ и своих организаторов».
Повесть «Один день Ивана Денисовича»
«Один день Ивана Денисовича» - первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принесшее ему мировую известность. В повести рассказывается об одном дне из жизни заключенного, русского крестьянина и солдата, Ивана Денисовича Шухова в январе 1951 года. Впервые в советской литературе читателям были правдиво, с огромным художественным мастерством показаны сталинские репрессии. Сегодня «Один день Ивана Денисовича» переведен на 40 языков мира. На Западе по этому произведению поставили фильм.
В одной из деревень в глубинке России под названием Тальново поселяется рассказчик. Хозяйку избы, в которой он квартирует, зовут Матрена Игнатьевна Григорьева или просто Матрена. Судьбы Матрены, рассказанная ею, завораживает постояльца. Постепенно рассказчик понимает, что именно на таких, как Матрена, отдающих себя другим без остатка, и держится еще вся деревня и вся русская земля.
«Архипелаг ГУЛАГ»
Написан Солженицыным в СССР тайно в период с 1958 до 1968 (закончен 22 февраля 1967 года), первый том опубликован в Париже в декабре 1973 года. В СССР «Архипелаг» был опубликован в 1990 году (впервые отобранные автором главы были опубликованы в журнале «Новый Мир», 1989, №№ 7‑11).
Архипелаг ГУЛАГ - художественно‑историческое исследование Александра Солженицына о советской репрессивной системе в период с 1918 по 1956 годы. Основано на рассказах очевидцев, документах и личном опыте самого автора.
Словосочетание «Архипелаг ГУЛАГ» стало нарицательным, часто используется в публицистике и художественной литературе, в первую очередь по отношению к пенитенциарной системе СССР 1920—1950‑х годов.
Роман «В круге первом»
В заглавии содержится аллюзия на первый круг дантова ада.
Действие происходит в специализированном институте‑тюрьме Марфино, аналоге того, где в конце 1940‑х годов содержался Солженицын. Основная тема института - разработка «Аппарата секретной телефонии», которую ведут в «шарашке» по личному указанию Сталина. Центральное место в повествовании занимает идейный спор героев романа Глеба Нержина и Сологдина с Львом Рубиным. Все они прошли войну и систему ГУЛАГа. При этом Рубин остался убежденным коммунистом. В отличие от него Нержин уверен в порочности самой основы системы.
Роман «Раковый корпус»
(сам автор определял его как «повесть»)
В СССР расходился в самиздате, в России впервые издан в журнале «Новый Мир» в 1991 году.
Написан в 1963-1966 годах по мотивам пребывания писателя в онкологическом отделении больницы в Ташкенте в 1954 году. Герой романа, Русанов, как в свое время и сам автор, лечится от рака в среднеазиатской провинциальной больнице. Главная тема романа - борьба человека со смертью: писатель проводит мысль о том, что жертвы смертельной болезни парадоксальным образом добиваются свободы, которой лишены здоровые люди.
Творчество А. Солженицына в последнее время занимает одно из важных мест в истории отечественной литературы XX века. Рассказ «Один день Ивана Денисовича», романы «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо», «Раковой корпус», «В круге первом» и другие широко известные во всем мире. Великие книги каждой национальности литературы вбирают в себя всю неповторимость, всю необычность эпохи. То главное, чем народ некогда жил, - и становится собирательными образами его прошлого. Конечно, ни одно литературное произведение не может вобрать все пласты народной жизни; любая эпоха намного сложнее, чем способен ее понять и охватить даже самый одаренный ум писателя. Память об эпохе сохраняет лишь то поколение, которое ее видело, жило в ней, а те, кто родился позже, - они усваивают и хранят уже не память об эпохе, а ее собирательный образ; и чаще всего этот образ создается великой литературой, великими писателями. Поэтому на писателя возложено гораздо большая ответственность за историческую правду, чем у историка. Если писатель исказит историческую истину, никакие научные опровержения уже не вычеркнут художественного вымысла из сознания народа – он становится фактом культуры и утверждается на века. Народу его история представляется такой, какой ее увидел и изобразил писатель.
Путь «писателя, озабоченного правдой», который избрал А.И. Солженицын, требовал не только бесстрашия – в одиночку выстоять против всей махины диктаторского режима: это был и самый трудный творческий путь. Потому что страшная правда – материал очень неблагодарный и неподатливый. Солженицын, пересилив свою собственную страдальческую судьбу, решился сказать о страдании не от своего, а от народного имени. Писатель сам пережил и знает, что такое арест человека, затем допрос, пытки, тюрьма и карцер, лагерь, сторожевая собака, лагерная похлебка, портянки, ложка и рубаха заключенного, что есть и сам заключенный, такой же вот предмет, но все еще обладающий жизнью, ни в чем не виноватый, кроме того, что родился ради страдальческой судьбы. Солженицын показал в своих произведениях тот колоссальный и невиданный доселе государственный механизм, который обеспечивал народное страдание, энергию этого механизма, его конструкцию, историю его создания. Ни одно государство, ни один народ не повторил такого трагизма, через который прошла Россия.
Трагизм русского народа раскрыт в романе Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Это история возникновения, разрастания и существования Архипелага ГУЛАГ, ставшего олицетворением трагизма России XX века. От изображения трагедии страны и народа неотделима тема страдания человека, проходящая через всё произведение. Тема – Власть и Человек – проходит через многие произведения писателя. Что может сделать власть с человеком и на какие страдания обречь его? В «Архипелаге ГУЛАГ» в устрашающий рассказ о Соловках врывается печально-саркастическая нота: «Это было в лучшие светлые 20-е годы, еще до всякого «культа личности», когда белая, желтая, черная и коричневая расы земли смотрели на нашу страну как на светоч свободы». В Советском Союзе блокировалась всякая информация, но Запад располагал сведениями о репрессиях в СССР, о диктатуре, искусственном голоде 30-х, гибнущих людях, концентрационных лагерях.
Солженицын упорно развеивает миф о монолитности и идейной сплоченности советского общества. Атаке подвергается представление о народности режима и ему противопоставляется точка зрения народного здравого смысла. Русская интеллигенция, чье сознание было пронзено чувством здравого долга перед народом, желанием вернуть этот долг, несла в себе черты подвижничества и самопожертвования. Одни приближали революцию, веру в осуществление мечты о свободе и справедливости, другие, более прозорливые, понимала, что мечта может подвести, свобода обернется тиранией. Так и случилось, новая власть установила диктатуру, все подчинялось большевистской партии. Не было ни свободы слова, нм критики строя. И если кто-то брал смелость высказать свое мнение, то за это отвечал годами лагерной жизни или расстрелом. А мог и пострадать ни за что, сфабриковывали «дело» по 58-й статье. Эта статья подбирала всех подряд.
«Дело» в системе тоталитарного государства не то, что в системе правового. «Делом» оказывается уже слово, мысль, рукопись, лекция, статья, книга, запись в дневнике, письмо, научная концепция. Такое «дело» может найтись у любого человека. Солженицын в «Архипелаге» показывает политических заключенных по 58-й статье. «Их было больше, чем в царское время, и они проявляли стойкость и мужество большее, чем прежние революционеры». Главный признак этих политических заключенных – «если не борьба с режимом, то нравственное противостояние ему». Солженицын возражает Эренбургу, назвавшему в своих мемуарах арест лотереей: «…не лотерея, а душевный отбор. Все, кто чище и лучше, попадали на Архипелаг». Этот душевный отбор толкнул в густоячеистый невод НКВД интеллигенцию, не торопившуюся засвидетельствовать лояльность, нравственно противостоящую диктату, он же привел на Архипелаг и таких, как герой «Круга» Нержина, который «всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин…исказил ленинизм. Едва только Нержин записал этот вывод на клочке бумажки, как его арестовали».
Автор раскрывает «противостояние человека силе зла, …историю падения, борьбы и величия духа…» У страны ГУЛАГ есть своя география: Колыма, Воркута, Норильск, Казахстан… «Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами». Не по своей воле человек отправлялся в страну ГУЛАГ. Автор показывает процесс насильственного подавления сознания человека, его «погружение во тьму», как «властная машина» и физически, и духовно уничтожала людей. Но тут же художник доказывает, что и в нечеловеческих условиях можно остаться людьми. Такие герои произведения, как комбриг Травкин, безграмотная тетя Дуся Чмиль, коммунист В.Г. Власов, профессор Тимофеев–Ресовский доказывают, что можно противостоять ГУЛАГу и остаться человеком. «Не результат важен…А дух! Не что сделано – а как. Не что достигнуто – а какой ценой» - не устает повторять автор, не дает людям согнуться в вере. Это убеждение выстрадано самим Солженицыным на Архипелаге. Верующие шли в лагеря на мучения и смерть, но не отказывались от Бога. «Мы замечали их уверенное шествие через архипелаг – какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами», - говорит автор. Лагерная машина без видимых сбоев работала, уничтожая тело и дух людей, приносимых ей в жертву, но справиться со всеми одинаково не могла. За пределами оставались мысли и воля человека к внутренней свободе.
Писатель достоверно рассказал о трагических судьбах русской интеллигенции, изуродованной, онемевшей, сгинувшей в ГУЛАГе. Миллионы русских интеллигентов бросили сюда на увечья, на смерть, без надежды на возвращение. Впервые в истории такое множества людей развитых, зрелых, богатых культурой оказались навсегда « в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтера».
А. Солженицын в начале своего повествования пишет о том, что в его книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Архипелаг – все эти «острова», соединенные между собой «трубами «канализаций», по которым «протекают» люди, переваренные чудовищной машиной тоталитаризма в жидкость – кровь, пот, мочу; архипелаг, живущий «собственной жизнью, испытывающий то голод, то злобную радость, то любовь, то ненависть; архипелаг, расползающийся, как раковая опухоль страны, метастазами во все стороны…».
Обобщая в своём исследовании тысячи реальных судеб, неисчислимое множество фактов, Солженицын пишет, что «если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать-тридцать лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотой, голого и привязанного пытать муравьями, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие, медленно раздавливать сапогами половые органы, «ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца»: многие зрители попали бы в сумасшедший день».
А.И. Солженицын доказал это, приведя в пример Елизавету Цветкову, узницу, который в тюрьму пришло письмо от дочери, попросившей мать сообщить виновата ли она. Если виновата, то пятнадцатилетняя девочка от нее откажется и вступит в комсол. Тогда невиновная женщина пишет дочери неправду: «Я виновата. Вступай в комсомол». «Как же дочери жить без комсомола?» - думает бедная женщина.
Солженицын, бывший узник ГУЛАГа, ставший писателем для того, чтобы поведать миру о бесчеловечной системе насилия и лжи, вынес в печать свою лагерную повесть «Один день Ивана Денисовича». Один день героя Солженицына разрастается до пределов целой человеческой жизни, до масштабов народной судьбы, до символа целой эпохи в истории России.
Иван Денисович Шухов, заключенный, жил как все, воевал, пока не попал в плен. Но Иван Денисович не поддался процессу расчеловечивания даже в ГУЛАГе. Он остался человеком. Что же помогло ему устоять? Кажется, в Шухове всё сосредоточено на одном – только бы выжить. Он не задумывается над проклятыми вопросами: почему так много народа, хорошего и разного, сидит в лагере? В чем причина возникновения лагерей? Он даже не знает, за что его посадили. Считается, что Шухов находился в заключении за измену Родине.
Шухов – обычный человек, жизнь его прошла в лишениях, недостатке. Он ценит, прежде всего, удовлетворение первых потребностей – еды, питья, тепла, сна. Этот человек далек от размышлений, анализа. Ему присуща высокая приспособляемость к нечеловеческим условиям в лагере. Но это не имеет ничего общего с приспособленчеством, униженностью, потерей человеческого достоинства. Шухову доверяют, потому что знают: он честен, порядочен, живет по совести. Главное для Шухова – это труд. В лице тихого, терпеливого Ивана Денисовича, Солженицын воссоздал почти символический образ русского народа, способного перенести невиданные страдания, лишения, издевательства тоталитарного режима и, несмотря ни на что, выжить в этом десятом круге ада» и сохранить при этом доброту к людям, человечность, снисходительность к человеческим слабостям и непримиримость к нравственным порокам.
Героя рассказа, Ивана Денисовича Шухова, Солженицын наделил не своей собственной биографией интеллигента–офицера, арестованного за неосторожные высказывания о Ленине, Сталине в письмах другу, а гораздо более народной – крестьянина-солдата, попавшего в лагерь за однодневное пребывание в плену. Писатель сделал это сознательно, ибо именно такие люди, по мнению автора, и решают, в конечном счете, судьбу страны, несут заряд народной нравственности, духовности. Обыкновенная и в то же время необыкновенная биография героя позволяет писателю воссоздать героическую и трагическую судьбу русского человека XX века.
Читатель узнает, что Иван Денисович Шухов родился в 1911 году в деревне Темченево, что он, как и миллионы солдат, честно воевал, после ранения он, не долечившись, поспешил вернуться на фронт. Бежал из плена и вместе с тысячами бедолаг-окруженцев попал в лагерь как якобы выполнявший задание немецкой разведки. «Какое же задание - ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто – задание».
У Шухова осталась на воле семья. Мысли о ней помогают Ивану Денисовичу сохранить в заключении человеческое достоинство и надежду на лучшее будущее. Однако передачи присылать жене запретил. «Хотя на воле Шухову легче было семью целую кормить, чем здесь себя одного, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что десять лет их с семьи не потянешь, так лучше без них».
В лагере Иван Денисович не стал «придурком», то есть тем, кто за взятку или какие-нибудь услуги начальству устроился на теплое местечко в лагерной администрации. Шухов не изменяет вековым мужицким привычкам и «себя не роняет», не уничтожается из-за сигареты, из-за пайки и уж тем более не вылизывает тарелки и не доносит на товарищей. По известной крестьянской привычке Шухов уважает хлеб; когда ест, снимает шапку. Не гнушается он и приработками, а «на чужое добро брюха не распяливает». Никогда не симулирует Шухов болезни, а, заболев всерьез, ведет себя в санчасти виновато.
Особенно ярко народный характер персонажа вырисовывается в сценах работы. Иван Денисович и каменщик, и печник, и сапожник. «Кто два дела руками знает, тот еще и десять подхватит», - говорит Солженицын.
Даже в условиях неволи Шухов бережет и прячет мастерок, в его руках обломок пилы превращается в сапожный нож. Мужицкий хозяйственный ум не может смириться с переводом добра, и Шухов, рискуя опоздать в строй и быть наказанным, не уходит со стройки, чтобы не выбрасывать цемент.
«Кто работу крепко тянет, тот над соседями вроде бригадира становится», - говорит писатель. Человеческое достоинство, равенство, свобода духа, по Солженицыну, устанавливают в труде, именно в процессе работы зеки шумят и даже веселятся, хотя весьма символичным является тот факт, что заключенным приходится строить новый лагерь, тюрьмы для самих себя.
Шухов на протяжении рассказа переживает всего один лагерный день.
День относительно счастливый, когда, как признает солженицынский герой, « выдалось много удач: в карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся». Тем не менее, даже этот «ничем не омраченный» день оставляет довольно тягостное впечатление. Ведь хороший, совестливый человек Иван Денисович постоянно должен думать только о том, как уцелеть, прокормиться, не замерзнуть, добыть лишний кусок хлеба, не вызвать гнев у надзирателей и лагерных офицеров… Можно только догадываться, как тяжело приходилось ему в менее счастливые дни. И все-таки Шухов находит время размышлять о родной деревне, о том, как там обустраивается жизнь, в которую он рассчитывает включиться после освобождения. Его беспокоит, что мужики не работают в колхозе, а все больше уходят на отхожие промыслы, зарабатывают непыльной работой – раскрашиванием ковров. Иван Денисович, а вместе с ним и автор, размышляет: « Легкие деньги – они и не веселят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неужто он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»
Среди критиков долгое время не утихали споры, положительный ли герой Иван Денисович? Смущало то, что он исповедовал лагерную мудрость, а не бросался, как почти все герои советской литературы, «в бой с недостатками». . Еще большие сомнения вызывало следование героя другому лагерному правилу: «Кто кого сможет, тот того и гложет». В рассказе есть эпизод, когда герой отбирает поднос у слабака, с большой выдумкой «уводит» толь, обманывает жирномордого повара. Однако каждый раз Шухов действует не для личной пользы, а для бригады: накормить товарищей, заколотить окна и сохранить здоровье солагерников.
Наибольшее недоумение у критиков вызывала фраза о том, что Шухов «уж сам не знал, хотел он воли или нет». В ней, однако, есть весьма существенный для писателя смысл. Тюрьма, по Солженицыну, - огромное зло, насилие, но страдание и сострадание способствуют нравственному очищению. «Жилистое, не голодное и не сытое состояние» приобщает человека к более высокому нравственному существованию, объединяет с миром. Недаром же заявлял писатель: «Благословляю тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни».
Иван Денисович Шухов - герой не идеальный, а вполне реальный, взятый из гущи лагерной жизни. Нельзя сказать, что у него нет недостатков. Он, например, по-крестьянски робеет перед любым начальством. Не может, в силу малообразованности, вести ученый разговор с Цезарем Марковичем. Однако все это не умаляет главного в солженицынском герое - его воли к жизни, стремления эту жизнь прожить не в ущерб другим и чувство оправданности собственного бытия. Эти качества Ивана Денисовича не смогли истребить долгие годы, проведенные в ГУЛАГе.
Другие персонажи произведения увидены как бы глазами главного героя. Есть среди них те, кто вызывает у нас откровенную симпатию: это бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, Алёшка–баптист, бывший узник Бухенвальда, Сенька Клевшин и многие другие. По-своему симпатичны и «придурок», и бывший московский кинорежиссёр Цезарь Маркович, устроившийся на легкую и престижную работу в лагерной конторе.
Есть, наоборот, такие, кто у автора, главного героя и у нас, читателей, ничего, кроме стойкого отвращения, не вызывают. Это – бывший большой начальник, а ныне опустившийся зек, готовый вылизать чужие тарелки и подбирать окурки, Фетюков; десятник – доносчик Дэр; заместитель начальника лагеря по режиму, хладнокровный садист лейтенант Волковой. Отрицательные герои никаких собственных идей в рассказе не высказывают. Их фигуры просто символизируют те или иные осужденные автором и главным героем негативные стороны действительности.
Другое дело – герои положительные. Они ведут друг с другом частые споры, свидетелем которых становится Иван Денисович. Вот кавторанг Буйновский, человек в лагере новый и к местным порядкам не приученный, смело кричит Волковому: «Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..» Шухов же про себя, как опытный зек, комментирует: «Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь». Здесь писатель демонстрирует крах надежд тех, кто был искренне предан Советской власти и считал, что в отношении их совершено беззаконие и надо только добиться неукоснительного и точного соблюдения советских законов. Иван Денисович вместе с Солженицыным прекрасно знает, что спор Буйновского с Волковым не просто бессмыслен, но и опасен для излишне горячего зека, что никакой ошибки со стороны лагерной администрации, конечно же, нет, что ГУЛАГ – хорошо отлаженная государственная система и что оказавшиеся в лагере сидят здесь не вследствие роковой случайности, а потому, что кому-то наверху это необходимо. Шухов подсмеивается в душе над Буйновским, еще не забывшим командирские привычки, которые в лагере выглядят нелепо. Иван Денисович понимает, что кавторангу надо будет смирить свою гордыню, чтобы выжить во время присужденного ему двадцатипятилетнего срока. Но вместе с тем он чувствует, что, сохранив силу воли и внутренний нравственный стержень, кавторанг скорее уцелеет в аду ГУЛАГа, чем опустившийся «шакал» Фетюков.
Бригадир Тюрин, лагерный ветеран, рассказывает печальную историю своих злоключений, начавшуюся с того, что еще в 1930 году бдительный командир и комиссар полка выгнали его из армии, получив сообщение, что тюринские родители раскулачены: «Между прочим, в 38-ом на котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку всунули. Так узнал от него: и тот комполка, и комиссар – оба расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии и кунаки. Имели совесть или не имели…Перекрестился я и говорю: «Все же ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь…»
Тут Солженицын устами бригадира декламирует тезис о том, что репрессии 1937 года явились Божьей карой коммунистам за беспощадное истребление крестьян в годы насильственной коллективизации. Практически все персонажи «Один день Ивана Денисовича» помогают автору высказать основные идеи насчет причин и следствий репрессий.
Проза А.И. Солженицына обладает качеством предельной убедительности в передачи жизненных реалий. Рассказанная им история об одном дне из жизни заключенного воспринималась первыми читателями как документальная, «непридуманная». Действительно, большая часть персонажей рассказа – подлинные, из жизни взятые натуры. Таковы, например, бригадир Тюрин, кавторанг Буйковсий. Только образ главного героя рассказа Шухова, по свидетельству автора, сложен из солдата артиллериста той батареи, которой командовал на фронте Солженицын, и из заключенного №854 Солженицына.
Приметами непридуманной реальности наполнены описательные фрагменты рассказа. Таковы портретная характеристика самого Шухова; ясно нарисованный план зоны с вахтой, санчастью, бараками; психологически убедительное описание чувств заключенного при обыске. Любая деталь поведения узников или их лагерного быта передана почти физиологически конкретно.
При внимательном прочтении рассказа выясняется, что эффект жизненной убедительности и психологической достоверности, производимой рассказом, - результат не только сознательного стремления писателя к максимальной точности, но и следствие его незаурядного композиционного мастерства. Удачное высказывание о художественной манере Солженицына принадлежит литературоведу Аркадию Белинкову: «Солженицын заговорил голосом великой литературы, в категориях добра и зла, жизни и смерти, власти и общества…Он заговорил об одном дне, одном случае, одном дворе…День, двор, и случай – это проявления добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества». В этом высказывании литературоведа точно подмечена взаимосвязь формально-композиционных категорий времени, пространства и сюжета с нервными узлами проблематики рассказа Солженицына.
Один день в рассказе содержит сгусток судьбы человека. Нельзя не обратить внимание на чрезвычайно высокую степень детализированности повествования: каждый факт дробится на мельчающие составляющие, большая часть которых подается крупным планом. Необыкновенно тщательно, скрупулезно следит автор, как его герой одевается перед выходом из барака, как он надевает тряпочку–намордник или как до скелета объедает попавшуюся в супе мелкую рыбешку. Такая дотошность изображения должна была бы утяжелить повествование, замедлить его, однако этого не происходит. Внимание читателя не только не утомляется, но и еще больше обостряется, а ритм повествования не становится монотонным. Дело в том, что солженицынский Шухов поставлен в ситуацию между жизнью и смертью; читатель заряжается энергией писательского внимания к обстоятельствам этой экстремальной ситуации. Каждая мелочь для героя – в буквальном смысле вопрос жизни и смерти, вопрос выживания и умирания. Поэтому Шухов искренне радуются каждой найденной вещице, каждой лишней крошке хлеба.
День – та «узловая» точка, через которую в рассказе Солженицына проходит вся человеческая жизнь. Вот почему хронологические и хронометрические обозначения в тексте имеют еще и символическое значение. «Особенно важно, что сближаются друг с другом, порой почти становясь синонимами, понятия «день» и «жизнь». Такое семантическое сближение осуществляется через универсальное в рассказе понятие «срок». Срок – это и отмеренное заключенному наказание, и внутренний распорядок тюремной жизни, и – самое важное – синоним человеческой судьбы и напоминание о самом главном, последнем сроке человеческой жизни». Тем самым временные обозначения приобретают в рассказе глубинную морально-психологическую окраску.
Место действия также необычно значило в рассказе. Пространство лагеря враждебно узникам, особенно опасны открытые участки зоны: каждый заключенный торопится как можно быстрее перебежать участки между помещениями, он опасается быть застигнутым в таком месте, спешит юркнуть в укрытие барака. В противоположность героям русской классической литературы, традиционно любящим ширь и даль, Шухов и его солагерники мечтают о спасительной тесноте укрытия. Барак оказывается для них домом.
«Пространство в рассказе выстраивается концентрическими кругами: сначала описан барак, затем очерчена зона, потом – переход по степи, стройка, после чего пространство снова сжимается до размеров барака.
Замкнутость круга в художественной топографии рассказа получает символическое значение. Обзор узника ограничен обнесенной проволокой окружностью. Заключенные отгорожены даже от неба. Сверху их беспрестанно слепят прожектора, нависая так низко, что будто лишают людей воздуха. Для них нет горизонта, нет нормального круга жизни. Но есть еще внутреннее зрение заключенного – пространство его памяти; а в нем преодолеваются замкнутые окружности и возникают образы деревни, России, мира.
Созданию обобщенной картины ада, на который был обречен советский народ, способствуют введенные в повествование эпизодические персонажи с их трагическими судьбами. Внимательный читатель не может не заметить, что историю тоталитаризма А. Солженицын ведет не с 1937 года, не со сталинских, как тогда говорили, «нарушений норм государственной и партийной жизни», а с первых послеоктябрьских лет. Совсем ненадолго появляется в рассказе безымянный старик-зек, сидящий с основания советской власти, беззубый, вымотанный, но, как всегда народные персонажи у А. Солженицына, «не до слабости фитиля–инвалида, а до камня тесаного, темного». Простой подсчет скрупулезно указанных писателем сроков заключения солагерников Ивана Денисовича показывает, что первый бригадир Шухова Кузьмин был арестован в «год великого перелома» - в 1929 г, а нынешний, Андрей Прокопьевич Тюрин, - в 1933 г, названном в советских учебниках истории «годом победы колхозного строя».
В небольшом рассказе уместился целый перечень несправедливостей, рожденных системой: наградой за мужество в плену стал для сибиряка Ермолаева и героя Сопротивления Сеньки Клевшина десятилетний срок; за веру в Бога при объявленной Сталинской Конституцией свободе веры страдает баптист Алешка. Система беспощадна и к 16-летнему мальчику, носившему в лес еду; и к капитану второго ранга верному коммунисту Буйновскому; и к бендеровцу Павлу; и к интеллигенту Цезарю Марковичу; и к эстонцам, вся вина которых – в желании свободы для своего народа. Злой иронией звучат слова писателя о том, что Социалистический городок строят заключенные.
Таким образом, в одном дне и в одном лагере, изображенных в рассказе, писатель сконцентрировал ту оборотную сторону жизни, которая была до него тайной с за семью печатями. Обсудив бесчеловечную систему, автор вместе с тем создал реалистический характер подлинно народного героя, сумевшего пронести через все испытания и сохранить лучшие качества русского народа.
Нам предстоит знакомство с прозаическим произведением беспрецедентным, прежде всего, по размеру:
вероятно, в десять-двенадцать тысяч книжных страниц. При этом, прочитав «Август Четырнадцатого», мы убеждаемся, что автор не лукавит, называя объемистый «узел первый» вступлением. Он не подсовывает нам законченный роман, который мог бы существовать и сам по себе, хотя бы иным сюжетным линиям и предстояло развиться в будущих частях эпопеи (как в серийных романах типа «Человеческой комедии», «Руган-Маккаров» или «Саги о Форсайтах»). Несмотря на внушительный размер, сама структура «Августа Четырнадцатого» свидетельствует о том, что это и правда лишь начало, завязка («узел первый»). В законченном произведении была бы невозможна столь вопиющая диспропорция в распределении материала: около 40% текста отведено описанию военных действий, примерно столько же политической истории России и лишь примерно одна пятая собственно героям книги: Лаженицыну, Воротынцеву, Томчакам, Ленартовичам. Большинство из этих персонажей лишь представлены в «Августе Четырнадцатого», у читателя остается впечатление, что с ними еще не раз предстоит встретиться, что главное еще впереди.
Грандиозность проекта вызывает комические протесты у студентов и преподавателей русской литературы на Западе. Представьте себе обзорный курс, где за семестр предстоит прочесть и осмыслить «Войну и мир», «Братья Карамазовы» и «Красное Колесо»!
Эта несущественная академическая проблема приобретает тревожный оттенок, когда жалобы на объем солженицынских сочинений раздаются в более широких читательских кругах. То, что образованные люди, те, кто порой часами просиживают перед телевизором, следя за механически скомпонованными сюжетными перипетиями «Далласа», не находят времени для чтения художественного текста, довольно печальный комментарий к духовному уровню нашего времени.
На мой взгляд, для чтения Солженицына стоило бы пожертвовать многими другими занятиями. Прочесть и понять его очень важно для каждого из нас в отдельности, потому что по сути дела он ставит вопрос о природе и корнях современного глобального конфликта: исторически - как противостояния СССР и Запада, политически - коллективизм против индивидуализма, религиозно - атеизм против веры.
Психологические проблемы личности в наш «век масс», психология современного национализма - всё это на глубоком уровне исследуется в «Августе Четырнадцатого». Независимо от того, соглашаемся мы с автором или не соглашаемся, восторг или возражение вызывают те или иные образы и описания, мы увлечены и взволнованы, читая эту книгу, и благодарны Солженицыну уже за то, что ему удалось поставить эти проклятые вопросы с глубиной, недоступной перу журналистов, и, вместе с тем, с широтой, какой никогда не встретишь в трудах ученых-специалистов.
И только дочитав до конца и справившись с наплывом впечатлений, начинаешь задавать себе вопросы, которые, в конце концов, сводятся к трем основным: в какой степени прочитанное является историей? как квалифицировать развиваемую автором политическую доктрину? и - то, что мы прочитали, в какой степени произведение искусства?
II
Дать ответ на последний вопрос затруднительно именно по той причине, что законченного произведения мы не знаем, а то, что знаем, несмотря на уже колоссальный объем, слишком еще фрагментарно, незаконченно. Впечатление грандиозной и неравномерно идущей стройки: мы видим несколько гениально спланированных и с редкой добротностью выстроенных этажей,
а также - столбы, перекрытия подвалов, каркасы, блоки, какие можно видеть хоть на строительстве дворца, хоть склада. Кто знает, что получится: может - не бывалый еще храм, а может - беспорядочное нагромождение разного рода помещений.
В будущем чтении всего повествования, возможно, проявится общий ритм, начало, организующее сюжетно едва связанные, разностильные и едва ли не разноприродные секции. Пока же волей-неволей впечатление такое, что прочел как бы ряд отдельных вещей: во-первых, начало большого романа с вышеупомянутыми, героями, во-вторых, беллетризованную хронику военных действий в Восточной Пруссии в начале Первой мировой войны, а затем три повести - повесть о террористе Дмитрии Богрове, житие Петра Столыпина и памфлет, сатирическую повесть о Николае II. (Еще - сатирическую же новеллу о Ленине.)
Таким образом, мелькавшее в первых критических отзывах сравнение с «Войной и миром» представляется очень поверхностным. «Красное Колесо» явно задумано по-другому. Военно-исторические и историософские главы в романе Толстого не имеют такого самостоятельного статуса, как сходные части в «Августе Четырнадцатого». У Толстого они куда крепче вплетены к сюжет. Вставных (составных) элементов у Толстого нет. Нет в «Войне и мире» повести о трудах и днях Сперанского, сатиры на Наполеона, жития Кутузова.
Настоящий жанровый прецедент «Красному Колесу» всё же можно отыскать в истории русской литературы. Только копать придется куда глубже Толстого. Это - летописи. Вот в летописях действительно накапливались и притирались друг к другу и документ, и сбивчивый рассказ очевидца, и благочестивое житие, и ядовитое поношение. От Нестора связующим началом летописного повествования служил ход времени, и не просто ход времени, но ход библейского времени - oт сотворения мира, от грехопадения к концу мира и
Страшному Суду. В поздних образцах летописного жанра, как, например, в «Сказании» Авраамия Палицына (XVII век), эта формообразующая основа выделялась еще сильней, подчеркивала циклическую композицию исторического повествования: преступление рождает преступление, грех рождает грех - роковое колесо!
III
Что бесспорно - это виртуозное писательское мастерство Солженицына, как оно проявляется внутри отдельных фрагментов.
Несколько лет тому назад известный американский историк Барбара Такман, обсуждая причины и характер упадка современной массовой культуры, ввела в обиход понятие Q-фактор, фактор качества. Этот фактор определяется количеством точного знания и тщательного труда, вкладываемого мастером в изделие - от стихотворения до табуретки. То есть тем, чем и отличается мастерство и от массового производства, и от простой халтуры. Так вот этот Q-фактор в прозе Солженицына необычайно высок. Лишь несколько современных русских прозаиков, принадлежащих к той же, что и Солженицын, традиции неореализма, в своих лучших произведениях приближались к этому уровню: Битов в «Пушкинском доме», кое-где Трифонов, Владимов в «Верном Руслане», Искандер на лучших страницах «Сандро из Чегема» .
Эта высокая качественность проявляется, прежде всего, в постоянной конкретности описаний. Перо Солженицына никогда не цепляется за буксирчик литературного клише, а всегда идет своим ходом, движется энергией своих пяти (и больше) чувств - видящих, слышащих, осязающих, обоняющих - знающих описываемый мир досконально. Если героиня Солженицына прячется от полдневного зноя, то читателю показан не зной вообще, а зной на Кубани, в крепкой сельской экономии в 1914 году:
«Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им достигало сюда попыхивание локомобилей с молотьбы, машинное гудение с делового двора да общее слитное жужжание насекомых и мух» (I, 44) .
Если описано поле боя, хоть бы и в одном абзаце, то с такими деталями, что не увидеть его невозможно:
«…противник с разгромом ушел с позиций, оставляя снаряжение, раненых и трупы - даже стоячие трупы, застрявшие в тесном крепком молодом ельнике» (I, 293).
Нет для этого автора мелочей, которые можно бы промахнуть, смазать в некое описательное пятно. Когда его персонажи ведут разговоры в пивной, то нам не только ясен весь план этого помещения, но и где находится столик, ими занятый, - в задней комнате у окна. И куда выходит окно - «в глухое нагромождение пивных ящиков» (I, 402). И качество пива - «в меру прохладное и крепкое» (1, 404) (и в этом автор являет себя знатоком: в наше время, когда жидковатое пиво принято бессмысленно морозить в холодильниках, только знатоки помнят, что пиво не должно быть слишком холодным).
Добротность, чувственность, пристальность описаний материализована в пластическом языке. Солженицын не дает русскому языку лениться под своим пером. Язык, послушный Солженицыну, беспрестанно раскрывает свои богатейшие и почти неиспользуемые выразительные возможности: словообразовательные, звукообразные, синтаксические.
Слова у Солженицына точны и экономны. Молитва - «бормотомая по привычке» (I, 325): ср. «молитва, которую бормочут по привычке». А какую длинную и неуклюжую конструкцию пришлось бы взгромоздить вместо солженицынского «охватнее было» (I, 326)! (Корень «хват» вообще очень любим Солженицыным, очень продуктивно им используется.)
Искусственного в словопользовании Солженицына ничего нет. Все его непривычные речения построены строго по законам русского словообразования, а нередко и просто заимствованы из запасников литературного языка, из диалектов. Можно представить себе таких читателей, которых раздражает обилие лексических отступлений от сегодняшней средней литературной нормы. В свое время, как известно, Горький воевал против диалектизмов и жаргонизмов в литературном языке. Можно равняться на язык прозы Горького и Федина, а можно на прозу Хлебникова, Ремизова, Цветаевой,
чью работу с русским словом и перенимает Солженицын.
Справедливости ради надо сказать, что, подобно последним, в своих глубоких языковых бурениях Солженицын порой забирает так глубоко, что в его текст начинают выбиваться какие-то уж вовсе праславянские языковые силы. «Простягать», «смельство» - по отдельности эти диалектные слова можно встретить у Даля, но, когда они сливаются в единую фразу:
«На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского…»
То думаешь, услышь такое в трамвае, не понял бы, на каком это языке сказано - ясно, что какой-то из славянских, но какой?
Синтаксис, построение фразы и периода, всегда служит у Солженицына средством выразительности.
Он может изобразить построением фразы ленивую истому:
«Книга была английская, но не в этом…» (I, 44; от жары героине лень додумывать).
А может грамматико-синтаксическими формами изобразить кромешную темноту:
«Спотыкались с крутой дорожной насыпи, наугад чавкали по болотистому месту (…) И опять спотыкались, в канаву попадали…» (I, 341).
На одной странице скопление предложений без подлежащих, вообще почти без существительных - потому что темно, в движущейся массе солдат никто никого не видит, не видно и того, что под ногами (вот задачка для переводчиков на языки, где неопределенно-личные предложения невозможны!).
Из трех стилистов, с которыми я сравнивал Солженицына выше, двое, Хлебников и Цветаева, - поэты. Если с хлебниковским стиль Солженицына только изоморфен, то с Цветаевой несомненное сходство многих приемов. Например, одинаково смело они актуализируют редчайшие, до них, может быть, не употребляв-
шиеся (но по природе языка возможные) грамматические формы. Таковы их необычные, но энергичные, ёмкие причастия и деепричастия. Солженицын: «бормотомая». Цветаева: «траву жрав ». Или невероятные формы множественного числа, да еще и в родительном падеже. Цветаева: «гетто избранничеств ». Солженицын: «горе выше горь » (II, 58).
Как Цветаева переносила в свою новаторскую прозу такие чисто стиховые приемы выразительности, как связь слов по аллитерации, ассонансу, изменяющейся корневой гласной, так и Солженицын эффектно использует эти, повторяю, стиховые приемы, хотя стихов и не пишет (писал в молодости, да очень плохие). Причем никогда у Солженицына эти приемы не служат просто приукрашиванию стиля, всегда они внутренне миметичны, изображают нечто . Например, цепочка мысленных ассоциаций интонируется звуковыми ассонансами, диссонансами: «Мог бы дать ей еще поразвиться. Порезвиться» (I, 32); «…насочиться - в мозгу ? в зобу ! в зубу ?» (II, 146). А иной раз звуком дается и наглядное изображение. Вот как раздражающе рябит у Саши Ленартовича в глазах (аллитерация на к ): «А К ачк ин к оротк оухий к ак ую-то к ривулину к орневую с рук и на рук у перебрасывал. Так и так . Так и этак » (II, 22).
А вот ниточкой, прошивающей сознание Богрова - т-т-т-т-… - «трёхтысячелетний, тонкий, уверенный зов» (II, 146).
Однако все эти характерные приемы солженицынского письма - тоже лишь ниточки. Высокий артистизм Солженицына скрывается, прежде всего, в его умении прясть из этих ниточек свою ткань, продергивать ими свой текст, создавая в сознании читателя устойчивые образные ряды. Это и есть то самое «долгое дыхание», без которого нет романиста.
Как он это делает?
Одна из главных тем книги - русский национальный характер. Он нигде не описывается исчерпывающе, но на протяжении всего текста происходит накапливание образных элементов, его обрисовывающих. Так, отрицательную сторону этого характера Солженицын видит в инертности. Образно это конкретизируется как сон, спячка, сонливость. Этому противопоставлены деятельные, моторные герои - Воротынцев (вечно в движении, полный желания «тянуть» или «толкать» отечество), такой же «двигатель» Столыпин, генерал Мартос Не-Пролей-Капельки, которому «доставалось мало спать» (I, 292), распираемые избытком предприимчивости инженеры Ободовский и Архангородский, Захар Томчак, с утра мчащийся в степь. Медлительных, рефлексивных среди любимых автором героев нет.
Ненавистная автору инертность возникает то в издевательском замечании по поводу русских штабистов, которые не дают себе труда шифровать ночные телеграммы: «Не должны были немцы перехватить - не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши» (I, 115), то патетически - моральное крушение генерала Самсонова происходит в результате вещего сна на Успенье, то уже и не от рассказчика непосредственно, а глазами персонажа: историческая катастрофа, убийство Столыпина, могла бы быть предотвращена, но видит завтрашний убийца - не хватает ума «у сонного
Кулябки. В лице Кулябки глупость - даже не личная, а типовая, если не расовая. Почесывается, укутывается плотней, ничего не заметил, всё правильно. Спа-а-а-ать!.. - Он сам как тройная подушка» (II, 156).
В композиции первой части «Августа Четырнадцатого», как мы уже.заметили, сейчас еще очень трудно уловить замысел автора - почему именно в этих двух местах, а не в иных, перебил он последовательность фронтовых эпизодов (большая часть первой половины) главами о Ленине и о прощании Сани и Коти с Москвой. В композиции второй половины, по крайней мере, легко просматривается симметрия. Центральная и основная (две трети) часть текста второй половины занята историческим отступлением («Из узлов предыдущих» называет эти главы автор). Историческая часть обрамлена примерно одного размера кусками из романного «сегодня», т.е. 1914 года. Причем эти «сегодняшние» куски разбиты в начале и в конце тоже симметрично: в начале - фронт, тыл, в конце - тыл, фронт.
Есть в таком построении прямая логика. В начале - картина окончательного военного разгрома. Затем, в тыловых сценах, разговоры об истории революционного движения, расшатавшего русские государственные устои - причина катастрофы. Затем начинается большое отступление, к 1911 году, к предыдущей катастрофе, предыдущему «узлу», перебитое в свою очередь двумя примерно одноразмерными вставными новеллами, поставленными в явную параллель историческими портретами. Апологетическое жизнеописание Столыпина начинается с отступа от 1911 года к началу его деятельности и заканчивается возвращением в 1911-й. Так же сатирическое жизнеописание Николая начинается с отступа к его первым шагам и постепенно возвращает нас, через 1911-й, к 1914-му, к «сегодня» романа, к концовке.
Схематически это выглядит так:
Причинно-следственная стройность в таком построении несомненно есть. Художественные связи между фрагментами менее убедительны. Возможно, они лучше проявятся в общей перспективе «Красного Колеса».
IV
Где композиционное мастерство Солженицына проявляется во всем блеске - это внутри центрального фрагмента. Отсюда у истории покушения Богрова на Столыпина особая законченность, завершенность, отдельность. Словно бы на стене строящегося дома, где еще едва наведены первые этажи и во все стороны торчат балки и арматура, скульптор уже укрепил тщательно отделанный барельеф.
2 сентября 1911 года в киевском Городском Театре в присутствии царя 24-летний анархист Дмитрий Богров, сын местного богатого адвоката-еврея, застрелил председателя совета министров России П.А. Столыпина.
Это событие многие современники склонны были считать почти случайностью. Терроризм, казалось, уже сошел в это время со сцены. Известные террористические акты прошлого совершались подпольными группами революционеров как ключевые моменты их программы. Но покушение Богрова было делом одиночки, действовавшего на свой страх и риск и не имевшего за плечами никакой организации, кроме той, которую он сам нафантазировал, чтобы водить за нос охранное отделение.
Имело хождение несколько версий, объясняющих преступление Богрова (все они широко обсуждались в печати после покушения и снова в двадцатые годы, когда открылся доступ к полицейским архивам и когда старые подпольщики взялись за мемуары). Основных же версий было три, и все они вертелись вокруг несомненного факта связи Богрова с охранным отделением, где он в течение нескольких лет, вплоть до покушения, числился тайным агентом.
По первой версии, Богров совершил убийство премьера (а фактически и самоубийство), чтобы реабилитировать себя перед товарищами, когда его связь с охраной стала известной. Эту версию отвергло большинство старых подпольщиков. Да и по архивам выяснилось, что Богров фактически дурачил охранное отделение, никогда не предоставляя ему сведений, могущих действительно повредить подполью, хотя такими сведениями часто располагал.
По другой версии, построенной уже на чистых домыслах, Богров был орудием в руках охранного отделения и тех косных придворных кругов, которым мешал энергичный реформатор Столыпин.
Наконец, по третьей, которая весьма доказательно представлена в книге старшего брата убийцы, В. Богрова, «Дм. Богров и убийство Столыпина» (Берлин, изд. «Стрела», 1913), Дм. Богров был настоящим фанатиком-анархистом, он тщательно продумал и спланировал свое преступление. Особенно продуман был именно выбор цели. Почему он стрелял в Столыпина, а не пытался убить царя? Потому что смерть Столыпина была бы куда более страшным ударом по ненавистной молодому анархисту русской государственности, чем смерть заурядного царя. Кроме того, Богров опасался, что убийство царя рукой еврея вызовет еврейские погромы.
Во внешне-исторической канве своей повести о Богрове Солженицын придерживается именно этой,
последней, версии. Он разрабатывает ее со свойственной ему доскональностью и с тем почти гипертрофированным почтением, которое свойственно его обращению с историческими материалами. (Характерно, что на самой последней странице книги, уже после оглавления, он считает необходимым добавить своего рода «с подлинным верно»: «Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, - подлинные».) В диалогах и внутренних монологах персонажей можно встретить прямые цитаты из опубликованных материалов о Богрове.
Но для художественного исследования истории, которое ведет Солженицын, не столь важен вопрос о том, как и почему Богров убил Столыпина, сколь - чтó убило Столыпина и чтó убил Богров.
Структура этого художественного текста сложна, исследование ведется в нескольких планах одновременно, и ответ дается не только вербализованный, но и, еще более, в подтексте. И там на разных уровнях: психологическом, мифологическом.
Прежде всего, известный по источникам облик Богрова, его психологический портрет, углублен скрупулезным психоанализом. Ненавязчиво обрисовывается болезненный, физически неполноценный отпрыск буржуазной семьи: «Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно моложав - к двадцати годам никакой растительности на лице» (II, 116), «телесной силы совсем не было в нем…» (там же), «а любимой женщины у него не бывало» (II, 124). В основе его революционности, усердно в себе разжигаемой, рационализируемой, лежат компенсаторные механизмы: ущемленное «я» стремится быть в центре всеобщего внимания, над всеми.
Это закрепляется в тексте развернутой, стержневой метафорой цирка и взбирающегося по шесту акробата. Богров начинает непосредственную подготовку к покушению:
«Всё это выглядело как колоссальный цирк, где зрителями был созван весь Киев, да по сути - вся Россия, да даже и весь мир. Сотни тысяч зрителей глазели из амфитеатра, а наверху на показной площадке, под самым куполом, в зените, выступали - коронованный дурак и Столыпин. А маленькому Богрову, чтобы нанести смертельный укол одному из них, надо было приблизиться к ним вплотную - значит вознестись, но не умея летать, взлезть, но не имея лестницы и в противодействии всей многотысячной охраны.
Образ цирка вызывает образ центрального шеста, поддерживающего вершину шатра. Вот по такому шесту - совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка, надо будет всползти, никем не поддержанному, но всеми сбрасываемому, всползти, ни за что не держась» (II, 137–138).
Вот версия, излагаемая Богровым охранникам, заколебалась:
«О, какой скользкий гладкий шест! Прижаться к его палочному телу самим собою, всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобностям» (II, 141).
Но нет, наживка проглочена:
«И отважный увидел себя - уже на половине шеста, нет - выше половины: уже мелкими кажутся те бесправные муравьи, из которых пополз три часа назад. И уже совсем не так далеко вверху заветная площадка!» (II, 144–146).
Вот его хитросплетение снова заколебалось:
«Коченеет, онемела вся долгота тела, вот - свалится со всей высоты (…) Почему все оступки, оскользы и срывы не постигают нас в плавной жизни, а только - на самом крутом опасном месте?» (II, 149).
«Эта публика не видела, как взбираются под купол, под верхнюю площадку, - она увидит только последний фокус» (II, 164).
Под внешностью инфантильного недотыкомки -ловкий паяц, ради эффектного трюка играющий судьбой великого народа. Но под этим внутренним Богро-
вым, под этим богровским «супер-эго», Солженицын вскрывает еще и третью, самую углубленно-запрятанную из сущностей Богрова. Что же это такое таится в самой глубине личности Богрова, в такой глубине, где личность уже и перестает быть личностью, превращается в явление родовое?
А вот что. Не только бесстрашно-гибким акробатом представляется себе Богров. Вот он любуется собственной изворотливостью:
«…как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в нее уложиться» (II, 124).
Еще один портрет - каким увидел Богрова старый эсер Егор Лазарев:
«…полуболезненный, утомленный безусый юноша в пенсне, с, передлиненными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа…» (II, 131).
И не связано ли с этими резцами - «нанести смертельный укол» (II, 138)? И дальше, еще точнее:
«В душной заперти Богров сидел, сворачивался, лежал, ходил, сидел, раскачивался - обдумывал. Те несколько нужных капель до рокового мига должны были накопиться, насочиться - в мозгу? в зобу? в зубу?» (II, 146; курсив мой. - Л.Л. ).
Змея. Слово ни разу не названо, но, по тонко отмеченному Герценом закону литературы, «подразумеваемые слова увеличивают силу речи». Да и в самом «Августе Четырнадцатого» Варсонофьев предупреждает Саню и Котю, а заодно и читателя:
«Полная ясность бывает только в простяцком. Лучшая поэзия - в загадках. Вы не замечали, какой там тонкий кружевной ход мысли?» (I, 405) .
Заметили. И, вкравшись в читательское сознание, слившись с образом нездорового молодого еврея, образ змеи реализуется в новых и новых деталях. Вот Богров идет в Купеческий сад - напряженный, решительный - на охоту за Столыпиным. И вдруг непредвиденное обстоятельство - оркестр:
«Как разбирают эти скрипки! А может быть отдаться музыке…» (II, 150).
Как известно, музыка - старое верное средство завораживания змей. Но в следующем эпизоде уже Богров гипнотизирует расслабленного, сонного Кулябку.
То, что в читательском сознании накапливается постепенно, постепенно проясняется как змеиная ипостась Богрова, - сотней страниц дальше мгновенно, с первого взгляда распознает его жертва, Столыпин.
Это второе описание момента убийства в романе. В первый раз оно дано через сознание убийцы, второй раз - жертвы. В антракте спектакля Столыпин стоит, облокотившись на барьер оркестровой ямы лицом к проходу.
«…проход пуст до самого конца. По нему шел, как извивался, узкий, длинный, во фраке, черный …» (II, 248; курсив мой. - Л.Л. ).
И только после роковых выстрелов вплетается в повествование наконец и само слово:
«Террорист, змеясь черной спиной, убегал» (II, 249; курсив мой. - Л.Л. ).
«Эко дело, - скажет иной читатель, - змея - расхожий нарицательный образ, ругательство. Только что у Солженицына эта метафора протянута через большой кусок текста».
Это неверно. Солженицын возвращает заштампованной употреблением метафоре первоначальную силу. Он подкрепляет ее целым рядом приемов, которые полностью проявляются только в рамках противопоставления: Богров - Столыпин. На этом противопоставлении, как на каркасе, и держится сюжет повести о Богрове.
Столыпин - столп отчизны, воплощение лучших национальных черт, вершина органического развития русской истории.
Богров - космополит, русского у него ни в крови, ни в характере ничего нет, он выродок беспочвенного радикализма.
Мы помним, каким бестелесным, противоприродным изображен Богров, «полуболезненный», «с голосом надтреснутым».
Впервые он сталкивается с премьером в Петербурге случайно:
Это противопоставление актуализируется в сознании читателя по мере чтения входящих одно в другое повествований о Богрове и Столыпине и достигает апогея в повторной сцене убийства.
Твердый крупный Столыпин стоит, опершись на барьер, в белом сюртуке.
Тонкий узкий убийца извивается по направлению к нему весь в черном.
«Столыпин стоял, беседовал…», «Столыпин стоял…», «Столыпин стоял всё один…», «Столыпин поднял левую руку - и ею, мерно, истово, не торопясь, перекрестил Государя» (II, 248–249).
Во всей сцене убийства Столыпин описывается простыми личными предложениями: подлежащее - сказуемое, имя - глагол.
Приближающийся убийца лишен существительного имени: «По нем шел, как извивался, узкий» и т.д.
Взглянем еще раз на эти четко прочерченные оппозиции:
…а Богров?
Отчетливо прорисовывается мифологема противоборства Добра и Зла (причем последнее по христианской традиции характеризуется признаком бестелесности, бесхребетности), Света и Тьмы, Креста и Змия.
V
Можно ли полагаться на «Август Четырнадцатого» как на источник сведений по русской истории?
У критика и военного историка Н. Рутыча даже вопроса такого не возникает. В своей обстоятельной статье («От Воротынцева к Столыпину», «Русская мысль», 27 октября 1983) он лишь размечает, где Солженицыным выполнено самостоятельное историческое исследование (победа корпуса русского генерала Мартоса под Орлау и ее роль в ходе европейской войны), а где Солженицын компилирует известные материалы.
Английский историк и литературный критик Джеффри Хоскинг, подтверждая в основном достоверность изображенных Солженицыным событий, ставит под сомнение объективность некоторых оценок писателя. Он, в частности, показывает, что борьбу Столыпина
с думской оппозицией Солженицын подчас описывает упрощенно, а подчас и просто неверно.
«Нет сомнения, на мой взгляд, - пишет Хоскинг, - что Столыпин был выдающимся государственным деятелем России начала 20 века, и именно по тем причинам, которые выдвигает Солженицын. Что однако тревожит в его историческом портрете - это недостаток нюансов, полное отсутствие ощущения сложности событий» («Обрыв в хаос», «Таймс Литерари Сапплмент», 3 февраля 1984).
Да, соглашается с Солженицыным Хоскинг, Столыпин ставил своей исторической задачей превратить Россию в правовое государство, но он сам же и подрывал слабый, еще только зарождающийся парламентаризм. «Закон о выходе из общины», потрясение вековых устоев, катаклизм в русской истории, он провел по ст. 87, о «чрезвычайных обстоятельствах», т.е. в обход Думы.
«Солженицын утверждает, что аграрная реформа была неотложно нужна, а Дума дебатировала бы ее до скончания веков. Совершенно верно, - пишет Хоскинг, - иными словами, налицо была подлинная дилемма, и представлять дело таким образом, будто для нее имелось простое и очевидное решение, не угодное лишь злонамеренным элементам, значит искажать сложность исторической ситуации» (там же).
Другой важнейший вопрос - о местном самоуправлении, о земствах, так же неправильно представлен Солженицыным, по мнению Хоскинга. Ибо не левые депутаты завалили законопроект - Дума как раз приняла предложения Столыпина по вопросу о земствах, - а русские помещики при обсуждении законопроекта на местном уровне, так как самостоятельность земств грозила им серьезным ущемлением их прав.
«Солженицын, - заключает Хоскинг, - фактически не уделяет достаточного внимания тем политическим и общественным силам, которые поддерживали Столыпина и лишь колебались по поводу отдельных пунктов столыпинской программы. Он создает образ Столыпина как одинокого отстаивателя прогресса и национального достоинства, храброго воина в неравном бою. Всё это повествование мелодраматично, чересчур сосредоточено на покушении и в нем упущены сложности и противоречия, которые и составляют подлинную драму истории» (там же).
Итак, по мнению Н. Рутыча, «Август Четырнадцатого» - безупречный исторический источник, а по мнению Дж. Хоскинга - не вполне. Еще один автор, написавший об «Августе Четырнадцатого» интересную статью, Юрий Кублановский, не вдается в оценку качества солженицынской историографии, но просто констатирует в начале:
«Задача Солженицына не только “истолковать”, но и впервые написать нашу новейшую историю, тщательно скрываемую, глубоко погребенную большевизмом. Соответственно тут мало одной художественной “трактовки”, одного “образа”, - надо воскрешать сам предмет: тут невозможно обойтись без больших документальных фрагментов» («У истоков стиля», «Русская мысль», 20 октября 1983).*
Таким образом и этот автор рассматривает «Август Четырнадцатого» как исторический источник, точнее, как некую комбинацию художественных кусков прозы и документальных (он так и определяет: «документально-художественная эпопея»).
Вероятно, говоря о документальности, Кублановский не имеет в виду десять небольших вставок под рубрикой «Документы». Сатирическое значение этих интерполяций самоочевидно. Как, например, в финале, где иронической виньеткой, завершающей трагедию, дана телеграмма главнокомандующего царю: «Счастлив порадовать Ваше Величество…» Нет, согласные и не согласные между собой критики под историческими разделами «Августа Четырнадцатого» имеют в виду сводные очерки деятельности Столыпина и Николая II, описание военных действий, очерк истории революционного движения (в рассказе тетушек). И сам автор
подталкивает к такому пониманию, предваряя очерк о Столыпине извинением, что нарушает, мол, романную форму, вынужден давать историю.
Однако не вводит ли автор критиков этим слегка в заблуждение, не слишком ли охотно критики соглашаются играть по предлагаемым правилам, забывая правила собственного критического ремесла? Не шлют ли они в результате и свои похвалы, и свои несогласия с отклонением от цели?
Мне-то, по ученичеству моему у Бахтина, кажется, что в художественном тексте у всех, чьи слова, мысли и поступки представлены, одинаковый статус - персонажей, а ценностные отношения по шкале морального и аморального, правдивого и ложного, исторического и фантастического определяются только модуляциями авторского голоса: что из описываемого дается всерьез, а что иронически, что как объективная реальность, а что как пристрастное мнение.
С этой точки зрения, и тот, кто представлен автором на стр. 169 второй половины «Августа Четырнадцатого» как Автор («Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы…»), независимо от намерений автора, не обладает в глазах читателя авторитетом большим, чем, скажем, другой персонаж - Варсонофьев. С первых же слов монолога Автора («Не все дают себе труд…») мы видим, что он полемичен, пристрастен, запальчив, т.е. проявляет в своем «историческом очерке» все качества, противопоказанные историку. Таким образом, подлинный автор, скрытый deus повествования, как бы приглашает нас относиться к данному монологу не то что критически, но брать его в сопоставлении с другими высказываниями на ту же тему в романе.
«История - иррациональна, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань (…) История растет как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите» и т.д. (I, 410).
Нет, относиться к эпопее Солженицына как к прямому описанию русской истории начала века нельзя. Дело не только в том, что Солженицын часто субъективен, тогда как за историком предполагается объективность. Иногда и наоборот. Те, например, кто рассматривает художественное произведение как моральную пропись, могли бы даже упрекнуть его в моральном релятивизме. В знаменитой сцене из «Доктора Живаго» герой Пастернака во время боя стреляет в мертвое дерево. У Солженицына герой, Воротынцев, бьет без промаха в живых людей и крякает от удовольствия («И Воротынцев с удовольствием в том ряду стоял и бил, зачерпывал патронов, заряжал, целился, бил, переводил, и когда казалось, что от него немец упал, - крякал даже», I, 267). Однако противовесом к этой сцене в сознании читателя всплывает гениально описанная в начале повествования встреча гимназиста с Толстым, где на настойчивые вопросы мальчика Толстой настойчиво отвечает: «Только любовью».
В рамках своего повествования Солженицын вполне объективен, но воспринимаемый неправильно, как историк, он избирателен и пристрастен, а следовательно ненадежен. Как писатель он должен быть избирателен и пристрастен, ибо без стиля нет литературы, а стиль, в конечном счете, это и есть разборчивость, пристрастность, страсть.
Наивен был бы тот читатель, который считал бы, что познакомился с историей русского революционного подполья по рассказам тетушки Адалии и тетушки Агнессы (главы 59–62). В этих рассказах проходит череда узколобых доктринеров, антирусских фанатиков и истеричек. Сарказм Солженицына успешно расправляется со своей мишенью - обесчеловечивающим сек-
тантством (в лице тетушек, конечно). Но с исторической точки зрения сектантство - только часть проблемы, корень которой в другом - в ужасающих условиях существования народа в государстве Романовых. Прекрасно знает и Солженицын, что всё началось не с истерики нервической барышни и не с мстительных замыслов обиженного судьбой студента, а с голодухи и рабского бесправия русского мужика, страданиями которого душа барышни и студента уязвлена стала. Эту историю писателю Солженицыну восстанавливать нужды нет: она широко известна по книгам других писателей - Некрасова, Герцена, Тургенева, Достоевского, Толстого, Лескова.
Гротескные рассказы тетушек - это и портрет их самих, и воссоздание той атмосферы нравственного тупика, в которой оказалась радикальная часть интеллигенции спустя полвека после начала общественного брожения. Увы, скорый читатель иногда торопится не заметить солженицынской тонкописи. Даже такой чуткий к стилю критик, как поэт Кублановский, усматривает в главах у тетушек «дегероизацию легендарности», а «описание народовольческих подвигов - “лукуллов пир” тонкой иронии, напоминающий этюд Вл. Набокова о Чернышевском» (цит. соч.). Да нет же, тут отнюдь не одна только тонкая ирония по поводу трагической истории народовольчества.
«Гимназистка, вышла на борисоглебский перрон, в муфточке - револьвер, встречать генерала, усмирителя крестьян, и - за поротых мужиков - ухлопала наповал! И прежде всякого суда - казачья казнь ей, изнасиловали взводом, в очередь» (II, 82–83).
Это ли тонкая ирония? Это ли сравнивать с эстетической сатирой Набокова?
VI
Вычитывание из «Августа Четырнадцатого» исторических фактов бесконечно обедняет, почти уничтожает художественное содержание книги. Не в эпизодах, деталях, высказываниях, оценках дает автор историю, а в сложных взаимоотношениях оценок, высказываний, деталей, эпизодов. Вычитывание из романа отдельных исторических суждений может быть и просто опасно: вытащи камень с одной стороны - арка рухнет. Если вычитать из «Преступления и наказания» отдельно изначальные резоны Раскольникова, можно получить гнусный вывод: убийство допустимо. Если вычитать из «Августа Четырнадцатого» отдельные куски повести о Богрове, можно получить гнусный вывод: антисемитизм.
Подготавливая эти заметки, я читал разные материалы, в том числе цитировавшуюся выше книжку брата Богрова. Книжка редкая, экземпляр достался мне затрепанный и обильно прокомментированный на полях каким-то преклонных лет, судя по орфографии, читателем вскоре после войны. Маргиналии моего предшественника были весьма однообразны. Расписывает, к примеру, автор душевные качества покойного (брат, все-таки!): «Тонкая духовная организация, душевная мягкость…» - «Еврейское лицемерие», - комментирует карандаш на полях. «По его глубокому убеждению он должен был осчастливить мир…» - «Еврейский». «Что побудило сына состоятельных родителей поступить в охрану?» Тут карандаш даже задыхается от возмущения: «Еврей он или нет?» И, наконец, решительное резюме на все решаемые в брошюре «тайны» и «загадки»: «Никакой тайны нет. Еврей одурачил хохла Кулябко».
Конечно, такая непреклонность способна во всем различить козни мирового кагала. Как писал Олейников:
Если в кране нет воды,
воду выпили жиды.
Немало может почерпнуть так целеустремленный читатель и из повести о том, как еврейский хлюст, повинуясь «трехтысячелетнему тонкому зову», коварно убил спасителя России.
Солженицын подчеркивает мотив еврейскою национализма в истории Богрова. Он тут вполне следует за самим Богровым, который называл в числе своих побуждений месть правительству за еврейские погромы:
«…позвольте вам напомнить, до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев?» (II, 132).
Это лишь слегка сокращенная цитата подлинных слов Богрова, приведенных в воспоминаниях Егора Лазарева . С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами. Наум Тыш, бр. Городецкие, Саул Ашкинази, Янкель Штейнер, Роза 1-ая Михельсон, Иуда Гроссман, Хана Будянская, Берта Скловская, Шейна Гутнер, Ровка Бергер, Эндель Шмельте - щедрой рукой набросаны на первые страницы рассказа о Богрове. Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины: Сальный Емельян Емельянов, Макаренко Лука Гаврилов, Ипатов Евстафий Михайлов, Базаркин Степан Алексеев, Просов Афанасий …
В документальных своих источниках Солженицын пренебрегает кое-каким красочным материалом, за который ухватился бы любой писатель. Например, удручающе пошлыми стихотворениями Богрова: «Твой
ласкающий, нежно-чарующий взгляд, Твои дорогие черты Воскресили давно позабытые сны… Мне не зажечь холодные сердца, Ах, как прожорливый паук, Из сердца кровь сосет гнетущая тоска…»(цит. соч., стр. 93–94). Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей.
Наконец в самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой, «Протоколами сионских мудрецов»:
«Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью Символического Змия, главу которого должно было составлять посвященное в планы мудрецов правительство евреев (всегда замаскированное даже от своего народа), а туловище - народ Иудейский. Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий этот подтачивал и пожирал (свергая их) все государственные, не-еврейские, силы по мере их роста» .
Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть. Как найдутся и такие, кто станет утверждать, что еврейство Богрова - случайный фактор, не имеющий отношения к гибели Столыпина.
За антисемитское прочтение его книги Солженицын несет не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку «Венецианского купца». Пьеса правдива, потому что еврейское ростовщичество было фактом жизни, и гуманистична, потому что в ней с большой поэтической силой сказано: «И еврей - человек», - революционно смелое утверждение по тем временам, от которых мы не так уж далеко ушли.
У Солженицына «и Богров - человек». Как ни отвратителен Богров своему автору, но даже этот пошляк и убийца с вывихнутыми представлениями о морали явля-
ет собой какой-то человеческий тип, полярный Столыпину, но принадлежащий человечеству.
Почему так неожиданно в предельно напряженных обрывистых абзацах сцены убийства возникает тема остроумия?
«Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный - такие бывают остроумными - молодой еврей» (II, 248), «…и что-то косо дернулось в его лице - не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острóта» (II, 249).
Почему так долго исподволь подготавливавшийся образ змеиного естества Богрова не заканчивается метафорой укола, укуса, ядовитого жала? Совсем другого плана, совершенно неожиданное, казалось бы, сравнение использовано Солженицыным в описании рокового момента:
«…вытянул браунинг свободным даром …» (II, 167; курсив мой. - Л.Л. ).
«Свободный дар», как известно каждому русскому читателю, это цитата из элегии Лермонтова «Смерть поэта» (1837) («Не вы ль сперва так злобно гнали / Его свободный, смелый дар…»). Так к концу жизнеописания террориста загадочно откликается та, казалось бы необязательная, отчасти анекдотическая заметка, которой это жизнеописание начато:
«Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через полоборота века, на другом конце диаметра» (II, 114).
Какая связь между свободным даром величайшего национального поэта и истерическим преступлением киевского белоручки? Казалось бы, если уж вспоминать Лермонтова, то параллель должна быть иной: Богров-Дантес («Заброшен к нам по воле рока, / Смеясь, он дерзко презирал / Земли чужой язык и нравы; / Не мог щадить он нашей славы; / Не мог понять в сей миг кровавый, / На чтó он руку поднимал!..»). Но в описании Cолженицына нет бьющегося ровно пустого сердца, не дрогнувшего в руке пистолета - что было бы логично
для писателя-ксенофоба. Есть «невысказанная острóта» и - даже! - пушкинский «свободный дар».
Эта «острóта», этот «свободный дар» открывают еще один план повествования: за историческим планом открывается философский, за политическим - антропологический. В глубине глубин речь идет уже не о Богрове и Столыпине, не о революционерах и реформаторах, не о русских и евреях, а об экзистенциальном конфликте, заложенном в самое человеческую природу. Мы присутствуем не только при нападении еврея-террориста на русского государственного деятеля: здесь взбесившийся «чистый разум» нападает на «органическое начало».
На этом фоне нелепы, да, пожалуй, и оскорбительны для автора выкладки, сколько у него «плохих» евреев, а сколько «хороших». Здесь не так важно, что среди самых близких сердцу автора персонажей есть и еврей Архангородский, как важен его христианско-гуманистический взгляд на дела людские .
Именно в финале повести о Богрове Солженицын принимается за труднейшую для художника и моралиста задачу изображения смертной казни. Вопросы были им поставлены давно:
«Как это всё происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? К каким приходят решениям? И как их берут? И что они ощущают в последние минуты? И как именно… это… их… это…?» («Архипелаг ГУЛаг», т. I–II, Париж, YMKA-Press, 1973, стр. 443).
Тогда же Солженицын писал, что этого не знает до конца никто - ни помилованные, ни палачи.
«Еще, правда, художник - неявно и неясно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой веревки» (там же, стр. 446).
Явно и ясно Солженицын отвечает на эти вопросы, повествуя о последних часах Богрова. Окончательный ужас смертной казни сосредоточен для него не в пляшущем на виселице теле, которое уже перестало быть живым человеком, перешло в неодушевленность, в средний род: «Тело, поплясавшее вначале, - висело 15 минут по закону…» - а в человеческих существах, получающих удовлетворение от этого зрелища (члены антисемитского «Союза русского народа», присутствующие при казни Богрова).
«Кто-то из союзников сказал: «Небось, стрелять больше не будет». А ему уже и не надо было» (II, 321) .
Это вам не высунутые языки Леонида Андреева. На это и Толстой не сказал бы: «Он пугает, а мне не страшно». Страшно.
VII
Взятые вне контекста герои Солженицына однозначны. В этом ключевое различие между Солженицыным и реалистами XIX века. Раскольников - убийца и совестный страдалец за человечество. Богров - убийца и точка. Аркадий Долгорукий то гнусно пристает к беззащитной девушке на бульваре, то совершает подвиги благородства. У Солженицына за Саней, Ярославом - одно благородство, за Сашей Ленартовичем - одна подлость.
Однозначность персонажей продиктована сверхзадачей романа: противопоставить неправильной русской истории правильную русскую утопию.
Утопия - великий двигатель литературы. Утопия - также великое средство воздействия автора на читателя: в сознании восприимчивого читателя она перестраивает систему нравственных и политических ориентиров, укореняет новые стимулы поведения.
В центре «Августа Четырнадцатого» рассказана историческая попытка осуществления русской утопии. Столыпин пытался поставить на практические рельсы то, что веками было утопической мечтой мужика о Руси обетованной - о Беловодье, Мамур-реке, Китеже.
В истории всё пошло неверно, неправильно. Выродка допустили убить Столыпина, а с ним и великие реформы. Армию доверили не тем генералам. Глупый царь досиделся под башмаком у вздорной царицы до потери трона.
Но в искусстве художественное изображение неправильности выступает как своего рода матрица, отпечатывающая в сознании читателя картину правильного мира.
Останься Столыпин жив или имей он достойных преемников, он осуществил бы свои пятилетние планы, так позорно окарикатуренные большевиками (большевики подрядились осуществить утопию, а осуществили кошмарную антиутопию - Архипелаг Гулаг). Столыпин превратил бы страну в здоровую конституционную монархию. Он удержал бы ее от вступления в мировую войну. Он переместил бы экономическое, а также культурное - национальное, одним словом, - ядро на безопасные и щедрые просторы Сибири. При самодостаточной экономии Россия развивалась бы как могучее и мирное государство в заботах об охране своей природы, физического и духовного здоровья народа. Она поддерживала бы мирные экономические и культурные отношения с соседями без притязаний на их территорию (своей хватает!) и с дальними державами.
Подробнее… Подробнее - в известном солженицынском «Письме вождям» .
Судя по его могучему началу, «Красное Колесо» - это письмо всему русскому народу. Докатится колесо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу - тогда можно не сомневаться, что будущее России будет великолепно.
ОТ РЕДАКЦИИ: Как нам стало известно, передача, сделанная по этой статье на радио «Свобода», вызвала внутри станции довольно острую полемику, инициаторы которой обвинили автора в «антисемитизме» и даже «животном расизме». Знал бы покойный Владимир Лифшиц - один из самых чистейших и талантливейших людей своего поколения, чуть не до голодной смерти затравленный в годы кампании против «безродных космополитов», что придет время, когда несколько бездарностей от журналистики, ради своих сугубо лукавых целей, обвинят его сына в юдофобии!
Публикуя эту статью, мы приглашаем читателей высказаться по этому поводу на страницах нашего журнала, ибо пора наконец положить предел поползновениям некоторых индивидов в нынешней эмиграции шантажировать своих идеологических оппонентов, а заодно и средства массовой информации русского Зарубежья жупелом антисемитизма.
Современный антисемитизм - достаточно серьезная и болезненная проблема, чтобы ею можно было пользоваться как политической отмычкой для чьих-то откровенно эгоистических, а то и прямо провокационных целей.
В этой статье я не касаюсь вопроса о сравнении нового издания «Августа Четырнадцатого» со старым. В отличие от первого издания «В круге первом», переработка которого привела к существенным изменениям в художественной и идеологической структурах романа (см. об этом мою статью в журнале «Эхо» № 14,1984), первое издание «Августа Четырнадцатого» есть лишь неполное издание.
Здесь мне не хотелось бы распространяться о генезисе солженицынской прозы. Ясно одно: он не выскочил сразу из Толстого и Достоевского, минуя весь промежуточный опыт русской словесности, как это иногда представляют. В структуре его романов, особенно последнего, много от опыта автора «Петербурга», а сама техника его письма могла бы послужить еще лучшей иллюстрацией к теоретическим выкладкам Замятина о неореализме, чем даже собственная проза Замятина (см. несколько упрощенные, видимо для юной аудитории, но точные по установкам лекции Замятина о неореализме в русской литературе, опубликованные в «Вестнике РХД» № 141, 1984). Именно исходя из понимания прозы Солженицына как неореалистической (термин Замятина мне представляется более точным, Бессмысленно объемистым, чем принятая аттрибуция этого направления как «сказового», «серапионовского»), я и сравниваю его с писателями, выросшими из того же корня. было бы сравнивать Солженицына с современными русскими прозаиками других корней: с Максимовым и Довлатовым, с Алешковским и Ерофеевым, с Аксеновым. Так же далек от Солженицына художнически и писатели-«деревенщики», хотя они и близки ему некоторыми своими идеями. Вот «деревенщики» действительно неожиданный свежий побег от старой народнической литературы XIX века. О своей связи с новаторской прозой Замятина и Цветаевой говорит и сам Солженицын.
Необходимо помнить, что приемы звукозаписи приобретают семантическую конкретность только в контексте. Вот среди лежащих на моем столе материалов по «Августу» взгляд вдруг поймал строки неподдельно русского звучания: «Русская мысль». Н. Руты ч. «От Воротынцева к Столы пину. Александр Солженицы н…» От чего «русскость»? От ассонанса на ы, звука, который, согласно основателю фонологии (и евразийства) кн. Трубецкому, из славянских языков свойствен только русскому (как тюркское заимствование). Но каков набор русских имен! Ведь не бывает англичан Смы тов, французов Ры шелье, евреев Шапы ро или Лы фшицев (последнее - подлинное имя автора этих строк, через и, конечно). Тут сразу видно: русский автор в русской газете пишет о русской книге. Но в другом контексте «русскость» ы была бы утрачена: «Добры й ры царь, мы твои верны е вассалы », например.
Как мы знаем из воспоминаний Л. Чуковской, когда Солженицын прочел Ахматовой свои стихи, она деликатно заметила, что в шп мало загадочности. На это будто бы Солженицын возразил, что в ее собственных стихах загадочности слишком много. Это верно: загадочность в природе ахматовской поэзии. Но, видно, поэтический урок Ахматовой Солженицыным все же был усвоен. Вообще же идеологически между ним и поэтессой, сказавшей: «…невинная корчилась Русь», - немало общего.
Отметим попутно, что в данном контексте семантическая нагрузка неопределенно-личного предложения совсем другая, нежели в ранее цитировавшемся примере.
Опущено после «растерзанных евреев»: мужчин, женцин и детей, с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами».
Всего 25 имен подпольщиков, известных Богрову и якобы выданных им, еврейских 11 (цит. соч., стр. 84).
Цит. по сб. «Луч света», вып. III, Берлин, б/д, стр. 218. О мифологическом змие существует обширная литература (см. статью С. Аверинцева и М. Мейлаха в энциклопедии «Мифы народов мира», М., Советская энциклопедия, 1980. Т. 1).
Блестящий анализ «еврейского вопроса» у Солженицына содержится в книге Эмиля Когана «Соляной столп, Политическая психология А. Солженицына» (Кретей, Франция, «Поиски», 1982, особенно стр. 188–190). Соглашаясь со всеми выводами Э. Когана (который имел дело с неполной версией «Августа Четырнадцатого»), автор настоящих заметок считает себя во многом обязанным этому кропотливому и, хочется добавить, проникнутому искренней добротой труду.
Попутно хочется отметить ритмизацию прозы Солженицына, ее незаметное приближение местами к верлибру, в наиболее патетических моментах. А это отдельно вынесенное и с противительного союза начатое «А ему уже и не надо было» неожиданно напоминает сходно построенное окончание стихотворения И. Бродского «На смерть друга»: после цезуры, с противительного союза - «Да тебе и не важно».
Б.
Парамонов обратил мое внимание на парадоксальное сходство «Письма вождям» со
многими пунктами программы Зеленой партии в Германии. Дело тут, видимо, в общей
тревоге человечества во второй половине XX века в связи с угрозой гибели природы и национальных культур.
Проблема исторической причинности постоянно занимала мысли Солженицына. Свидетельством тому служит тот факт, что с конца 1960-х годов лагерная тема отходит в творчестве писателя на задний план. Л.А. Колобаева отмечает эволюцию писательского мировосприятия от преимущественно социальной тематики ранних «крохоток», до всечеловеческих вопросов более поздних.
Исследователь отметила «необычный ракурс видения людей и вещей, иной раз резко отстраненный, словно бы инопланетный, позволяющий под новым углом зрения заметить нелепости, абсурд человеческой жизни, в особенности советской» . Наиболее значимой, в этом отношении, представляется работа Н. Рутыч , содержащая попытку осмысления образа Сталина, основываясь на сравнении двух вариантов романа.
По мнению исследователя, первый достаточно полный литературный портрет Сталина появился именно в Круге – 96, когда писатель ввел новые главы «Этюд о великой жизни» и «Император земли». Справедливой представляется мысль Я.С. Лурье, опровергавшего всемогущество личности государственного деятеля. Главными объектами изображения в солженицынском произведении является творимая людьми история, описываемые события происходят в обществе, основу которого составляют люди.
Совершается же история не только и не столько отдельными личностями, сколько крупными человеческими массами. В связи с этим, закономерным представляется вывод исследователя, что ни Гитлер, ни Сталин «не делали историю; не делал ее и Ленин: при всем своем фанатизме он был оппортунистом, следовавшим сперва бунтовщическому напору масс, а потом стремлению страны (и своих собратьев по партии) к рыночным отношениям.
Огромные средства истребления, оказавшиеся в руках государственных деятелей ХХ в., не изменяли того обстоятельства, что они, бравшие на свою совесть массовые убийства, могли это делать потому, что их волю готово было выполнять множество людей» . Одной из первых попыток осмысления фигуры Сталина является работа А.В. Белинкова, выявляющая особенности восприятия этого исторического деятеля. «Одной из наиболее дискуссионных, а для некоторых и сомнительной в романе Солженицына, является фигура Сталина. Дискуссии и сомнения возникают в связи с тем, что такой Сталин не мог бы сделать таких дел (такой истории)» . Оценка Сталина с общечеловеческих позиций была неожиданна для многих и породила волну непонимания, однако Белинков верно полагает, что Сталин в романе Солженицына «В круге первом» «существует не как портрет, отделенный рамочкой от других фактов произведения, а как элемент в системе его образов» .
Многообразие суждений о различных этико-философских категориях выражаются посредством образов романа, система которых соотносится не только и не столько с историей, сколько с доминирующей художественной концепцией романа о тесной взаимосвязи и взаимовлиянии внешнего мира и внутреннего самосознания персонажа, что и привело исследователя к мысли, что Сталин «безумен, гибелен и противоестественен» . Подобное мнение высказывает А. Солженицын на страницах «Ахипелага ГУЛАГа». «И в предтюремные и в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер – и уже так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям – это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шел стопой в указанную ленинскую стопу…» . Осмысливая солженицынское творчество, Я.С. Лурье приходит к выводу об эволюции писательского мировоззрения, выразившееся в утрате советского патриотизма и переосмыслении самого этого понятия. Конкретизация понятия патриотизма, осознание общей ответственности за все происходящее нашло свое отражение в романе «В круге первом» и в эпопее «Красное колесо». По мнению Н.Л. Лейдермана, «Главный предмет эпопеи Солженицына – собственно история, цель писания – правда об историческом событии (катастрофе России в 1917 году), человек же интересен автору не как самоценная личность, а как историческая функция» .
Цель нашей статьи состоит в том, чтобы сопоставить образы Столыпина и Сталина с учетом особенностей солженицынской трактовки этих персонажей. С нашей точки зрения, в «Красном колесе» А.И. Солженицын показывает насколько по-разному исторические события воздействуют на людей, которые, в свою очередь, позиционируются в истории в соответствии с собственным миропониманием. С этой точки зрения можно выявить сходство Столыпина и Сталина, которые, казалось бы, диаметрально противоположны друг другу. Однако оба героя сходны в стремлении укрепить существующий социальный порядок. Сталин, представленный в романе А.И. Солженицына «В круге первом», испытывал страх перед революцией, его слова сродни шаманскому заклинанию: «Не нужно больше никаких революций!
Сзади, сзади все революции! Впереди – ни одной!» . Столыпин же, понимая всю опасность революции, ощущал в себе силы противостоять разрушительным революционным идеям: «Все мысли Столыпина были склада общегосударственного. А вот прежде надо было дать чужой полицейский бой – да такой, какого русская революция еще не встречала и не ждала» . В словах Сталина явственно слышится страх за собственную жизнь и боязнь потерять власть. Столыпин же рассматривал власть не как самоцель, а как способ проведения реформ, способствующих расцвету России: «Им нужны – великие потрясения, нам нужна – великая Россия!» . Все мысли и действия П.А. Столыпина были направлены на улучшение жизни народа в России, на укрепление и развитие своей Родины. «У Петра Столыпина таким узлом завязалось рано, сколько помнил он, еще от детства в подмосковном Середникове: русский крестьянин на русской земле, как ему этой землей владеть и пользоваться, чтоб добро и ему, и земле» . Революционеров же абсолютно не интересовало повышение благосостояния людей, во главе угла для них стояло свержение монархии и захват власти. Показательным в данном случае является заявление Ленартовича: «Надо иметь точку зрения обобщающую, если не хотите попасть впросак. Мало ли кто на Руси страдал, страдает! К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых.
Безобразия в деле раненых – тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше» . Революционеры не ставили перед собой задачу улучшения жизни в России, точнее даже будет сказать, что ими это рассматривалось как помеха для достижения их цели. Отбирая те или иные подробности, Солженицын словно поворачивает персонаж определенной стороной. Сталину безразлична судьба простых людей, единственное, «что ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь – а люди чтобы делали, ты укажешь – а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого – ничего нет. Это выше богатства» . Проблема соотношения героя и окружающего его пространства приобретает особое значение в произведениях Солженицына. Чуждость России революционеров Солженицын показал описанием 1-й Думы, первоочередным заданием которой было не облегчение жизни простого человека, а свержение правительства и призыв к бунту.
Сталин, из романа «В круге первом», настолько чужд России, окружающему его пространству, что безжалостно уничтожает его, погрузив страну во тьму тоталитарного террора, уничтожив все, что могло бы напомнить о старой Руси. Столыпин же настолько укоренен в российскую действительность, что абсолютно точно понимает, что только трудолюбивый зажиточный крестьянин будет надежным оплотом государства. «Землю, – по мнению Столыпина, – надо не хватать друг у друга, а свою собственную пахать иначе: научиться брать с десятины не по 36 пудов, а по 80 и 100, как в лучших хозяйствах» . На фоне заявлений Сталина о собственной гениальности, Солженицын представляет мысли персонажа о коммунизме как обществе строгой дисциплины и недостаточной сытости. «Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от материальной силы истории, бытие перестанет определять сознание, и все пойдет кувырком» .
Писатель явно симпатизирует Столыпину, что ощущается в стилистике посвященных ему глав. Для характеристики персонажа Солженицын использует прием опосредованной оценки, что служит объективизации повествования. Не только Солженицын придавал особую значимость фигуре министра внутренних дел, но и современники героя, осознавали силу, ясность ума и ту роль, которую Петр Аркадьевич играл в истории России. Вот как Богров мотивирует свое решение убить Столыпина: «Надо ударить в самое сплетение нервов – так, чтобы парализовать одним ударом все государство. И – на подольше. Такой удар может быть – только по Столыпину. Он – самая зловредная фигура, центральная опора этого режима. Он выстаивает под атаками оппозиции и тем самым создает режиму ненормальную устойчивость, какой устойчивости на самом деле нет. Его деятельность исключительно вредна для блага народа. Самое страшное, что ему удалось, – это невероятное падение в народе интереса к политике» . Богровский страх и уважение Столыпина сменяется явной иронией при описании царя: «Да что Николай, он игрушка в руках Столыпина» . В солженицынском описании царя явно звучат иронические нотки, смешанные с сочувствием и пониманием особенностей персонажа.
Однако проникновенное описание сменяется сатирой, если речь идет о советском диктаторе. Боязнь пространства вступает в конфликт с «наполеоновскими» самооценками Сталина. Солженицын подчеркивает несостоятельность претензий героя на величие и мировое господство, поместив его в тесное, замкнутое пространство. «Сильно сгорбившись, путаясь в длинных полах халата, шаркающею походкой владетель полумира прошел во вторую узкую дверь, не различную от стены, опять в кривой узкий лабиринтик, а лабиринтиком – в низкую спальню без окна, с железобетонными стенами» . Эффект контраста возникает за счет того, что автор использует не нейтральные антропонимы Сталин, Джугашвили, а семантически экспрессивную метонимию «владетель полумира», которая вступает в смысловую оппозицию с выражениями «узкая дверь», «узкий лабиринтик», «низкая спальня».
Столыпин же «шагом твердым всходя на трибуну, крепкого сложенья, осанистый, видный, густоголосый» . Отказ автора от экспрессивно окрашенной лексики при описании персонажа является одним из способов положительной характеристики героя, которому абсолютно не свойственно пустое тщеславие и самовосхваление. Столыпин источает силу и уверенность и абсолютно не нуждается в завышенных самооценках. «Петр Аркадьевич, так любивший верховую езду да сильную одинокую ходьбу по полям, теперь гулял из зала в зал дворца или всходил на крышу его, где тоже было место для царских прогулок» .
И тут же ироничное высказывание всеведущего писателя: «А император этой страны так же потаенно прятался уже второй год в маленьком имении в Петергофе и так же давно нигде не смел показываться публично и даже под охраною ездить по дорогам собственной страны. И в чьих же тогда руках была Россия? Разве – еще не победили революционеры?» . Позволим себе продолжить сравнение Солженицына и заглянуть во время окончательной победы революционеров, кто возглавил страну и какое государство было создано? Боровшиеся за свержение монархии революционеры создали тоталитарное общество, не имевшее аналогов в мире.
Парадоксальность ситуации состоит в том, что даже адепты системы, страхом и рвением которых она держится, оказываются не в ладу с ней. Возглавляет же это «новое» общество диктатор, более всего озабоченный сохранением собственной власти. Два предлагаемых нами к сравнению персонажа, кардинально отличаются друг от друга не только по характеру, но и по стилю поведения и морально-волевым качествам. Столкнувшись с трудностями революционного движения, проведя в тюрьме год, Сталин пал духом и, ради облегчения собственной участи и сохранения жизни, соглашается на сотрудничество с тайной полицией. Выдвинутое Солженицыным предположение о возможной службе Сталина в царской охранке направлено не на выяснение исторической правды, а на выявление психологических особенностей героя. Это утверждение служит также типизации персонажа и дополняет этот историко-психологический инвариант существенными чертами. Таким образом Солженицын опосредованно разоблачает и остальных революционеров, поторопившихся сжечь Охранное отделение и уничтожить все документы: «Знали революционеры, что надо было сжигать побыстрей» . Все вышеизложенное позволяет утверждать, что писатель отказывает Сталину в какой бы то ни было исключительности, подчеркивая общность психологических характеристик революционеров. Столыпин же неуклонно проводил свою линию, невзирая ни на какие трудности.
Он пытался убедить бунтарскую Думу в необходимости «терпеливой работы для родины, когда они собирались прокричать лишь – к бунту» . Петр Аркадьевич преодолевал недовольство революционеров, высокопоставленных чиновников царской России и самого Николая, но был тверд в своих убеждениях. «Крупной фигурой, густым голосом, и как он твердо ступал, и как уверенно принимал решения – Столыпин еще усилял то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты, с дальних мест всероссийского амфитеатра. Да сила и всегда была несомненна, раз один человек мог вывести такую страну из такого положения» . Использование приема опосредованной характеристики позволяет Солженицыну выявить сущность столыпинского характера. Примечательно, что именно в уста Богрова, писатель вложил четкое и емкое описание особенности характера премьер-министра: «Характер Солыпина – не уклоняться от опасности. Так он и встретит свою верную смерть» . Проблема осмысления и адекватного восприятия происходящих событий нашла свое отражение в работе Б.Г. Реизова: «В начале XIX века, когда приходилось доказывать, что исторический роман имеет право на существование, критики утверждали, что подлинной, объективной художественной правды можно достигнуть только в этом жанре. Прошедшие эпохи лучше поддаются анализу, потому что основные тенденции их развития обнаружились в эпохи, за ними последовавшие, и смысл их уже вскрыт историей. Современность, говорили они, еще не имеет следствий. Процессы, в ней совершающиеся, не угаданы временем, и тот, кто живет в водовороте событий, не в состоянии их оценить и понять. Затем, когда на смену историческому роману пришла повесть из современной жизни, точка зрения изменилась. Только современник событий может их понять. Только в толкотне эпохи, испытывая на себе ее бедствия и надежды, можно познать ее сущность, ее проблематику, чувства тех, кто ее делал и переживал» . Собранный в данной статье материал, несмотря на вынужденную неполноту, позволяет сделать вывод, что ни Солженицын, современник сталинской эпохи, ни читатель, воспринимающий ее как историю, не в состоянии однозначно понять и объяснить образ Сталина.
Жизнь и деятельность Столыпина тоже не до конца изучена, слишком много фактов замалчивалось и неверно трактовались, исходя из конъюнктуры эпохи. Изучение фигур двух этих исторических деятелей – дело будущего, однако попытка осмысления этих персонажей Солженицыным имеет безусловную ценность. Актуальность творчества Солженицына на современном этапе связана с тем, что мысли писателя опираются на христианский опыт предшествующих поколений. Возрастающая роль различных теологических систем усилила влияние антропософских настроений современного общества и выделение личностного аспекта в качестве доминирующего в творчестве Солженицына, стало основой современных исследований. Присущая писателю глубокая вера помогает ему чувствовать грань между добром и злом и направлять жизнь и творчество по пути добра. Ю.В. Рокотян полагает, что «таковы герои произведений Солженицына: Иван Денисович, внешне вроде бы и не религиозный, Матрена, Спиридон, Воротынцев и многие другие» .
Литература
1. Белинков А.В. Сталин у Солженицына. Из незавершенной
книги
«Судьба и книги Александра Солженицына» / А.В. Белинков // Новый колокол. – 1972. – №1. – С. 429-430.
2. Колобаева Л.А. «Крохотки» / Л.А. Колобаева // Литературное обозрение. – 1999. – №1. – С. 39-44.
3. Лейдерман Н.Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы:
учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений]: в 2 т. – Т.1: 1953–1968
/Л.Н. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – М.: «Академия», 2003. – 416 с.
4. Лурье Я.С. После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы ХХ века /Я.С. Лурье. – СПб. – 1993. – 168 с.
5. Немзер А.С. Она уже пришла. Заметки об «Августе Четырнадцатого» // А.С. Немзер / Солженицын А.И. Собрание сочинений в 30 томах / А.И. Солженицын. – Т.8. Красное колесо: повествованье в отмеренных сроках в четырех Узлах. – Узел I: Август Четырнадцатого. Книга 2. – М.: Время, 2006. – с.484-520.
6. Реизов Б.Г. Историко-литературные исследования: Сборник статей / Б.Г. Реизов. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1991. – 248 с.
7. Рокотян Ю.В. Христианские корни публицистики Солженицына / Ю.В. Рокотян // Москва. – 2005. – №12. – С. 154-159.
8. Рутыч Н. Сталин в современной литературе / Н. Рутыч // Посев. – 1980. – №2. – С. 48-54.
9. Солженицын А.И. В круге первом: [роман] / А.И. Солженицын. – М.: Художественная литература, 1990. – 766 с. – (Текст).
10. Солженицын А.И. Малое собрание сочинений: В 9 т. / А.И. Солженицын – М.: ИНКОМ НВ, 1991. – Т. 5: Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт художественного исследования, т.1. – М. – ИНКОМ НВ – 1991. – 432 c.
11. Солженицын А.И. Собрание сочинений в 30 томах / А.И. Солженицын. – Т.7. Красное колесо: повествованье в отмеренных сроках в четырех Узлах. – Узел I: Август Четырнадцатого. Книга 1. – М.: Время, 2006. – 432 с.
12. Солженицын А.И. Собрание сочинений в 30 томах / А.И. Солженицын. – Т.8. Красное колесо: повествованье в отмеренных сроках в четырех Узлах. – Узел I: Август Четырнадцатого. Книга 2. – М.: Время, 2006. – 536 с.