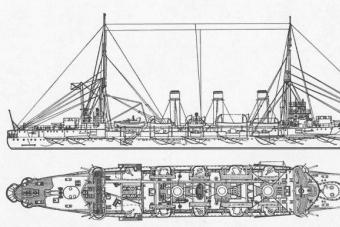XV
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Социокультурная ситуация во Франции после 1945 года. Понятие «ангажированной литературы». — Сартр и Камю: полемика между двумя писателями; художественные особенности послевоенного экзистенциалистского романа; развитие экзистенциалистских идей в драматургии («За закрытой дверью», «Грязные руки», «Затворники Альтоны» Сартра и «Справедливые» Камю). — Этическая и эстетическая программа персонализма; творчество Кейроля: поэтика романа «Я буду жить любовью других», эссеистика. — Концепция искусства как «антисудьбы» в позднем творчестве Мальро: роман «Орешники Альтенбурга», книга эссе «Воображаемый музей». — Арагон: интерпретация «ангажированности» (роман «Гибель всерьез»). — Творчество Селина: своеобразие автобиографических романов «Из замка в замок», «Север», «Ригодон». — Творчество Жене: проблема мифа и ритуала; драма «Высокий надзор» и роман «Богоматерь Цветов». — «Новый роман»: философия, эстетика, поэтика. Творчество Роб-Грийе (романы «Резинки», «Соглядатай»,
«Ревность», «В лабиринте»), Саррот («Планетарий»), Бютора («Распределение времени», «Изменение»), Симона («Дороги Фландрии», «Георгики»). — «Новая критика» и понятие «текста». Бланшо как теоретик литературы и романист. — Французский постмодернизм: идея «новой классики»; творчество Лe Клезио; роман «Лесной царь» Турнье (особенности поэтики, идея «инверсии»); языковой эксперимент Новарина.
Французская литература второй половины XX века во многом сохранила свой традиционный престиж законодательницы мировой литературной моды. Ее международный авторитет оставался заслуженно- высоким, даже если взять такой условный критерий, как Нобелевская премия. Ее лауреатами стали Андре Жид (1947), Франсуа Мориак (1952), Альбер Камю (1957), Сен-Жон Перс (1960), Жан-Поль Сартр (1964), Сэмюел Бекетт (1969), Клод Симон (1985).
Наверное, было бы неверно отождествлять литературную эволюцию с движением истории как таковой. Вместе с тем очевидно, что ключевые исторические вехи — май 1945 г. (освобождение Франции от фашистской оккупации, победа во Второй мировой войне), май 1958 г. (приход к власти президента Шарля де Голля и относительная стабилизация жизни страны), май 1968 г. («студенческая революция», движение контркультуры) — помогают понять направление, в котором продвигалось общество. Национальная драма, связанная с капитуляцией и оккупацией Франции, колониальные войны, которые Франция вела в Индокитае и Алжире, левое движение — все это оказалось фоном творчества многих писателей.
В этот исторический период ключевой фигурой для Франции стал генерал Ш. де Голль (1890—1970). С первых дней оккупации его голос зазвучал на волнах Би-Би-Си из Лондона, призывая к сопротивлению силам Вермахта и властям «нового французского государства» в Виши, возглавляемого маршалом А. -Ф. Петеном. Де Голлю удалось претворить позор бесславной капитуляции в осознание необходимости борьбы против врага, придать движению Сопротивления в годы войны характер национального возрождения. Программа Национального комитета Сопротивления (так называемая «хартия»), содержавшая в перспективе идею создания новой либеральной демократии, требовала глубинного преобразования общества. Ожидалось, что идеалы социальной справедливости, разделяемые участниками Сопротивления, будут реализованы в послевоенной Франции. В определенной степени так и произошло, однако для этого понадобилось не одно десятилетие. Первое послевоенное правительство де Голля просуществовало всего несколько месяцев.
В Четвертой республике (1946— 1958) де Голль как идеолог национального единства оказался во многом невостребованным. Этому способствовали и «холодная война», вновь поляризовавшая французское общество, и болезненно переживавшийся многими процесс деколонизации (отпадение Туниса, Марокко, затем Алжира). Эпоха «великой Франции» наступила лишь в 1958 году, когда ставший наконец полновластным президентом Пятой республики (1958— 1968) де Голль сумел положить конец алжирской войне, утвердить линию независимой военной политики Франции (выход страны из НАТО) и дипломатического нейтралитета. Относительное экономическое процветание и промышленная модернизация привели к становлению в 1960-е годы во Франции так называемого «общества потребления».
В годы войны французские писатели, как и их соотечественники, были поставлены перед выбором. Одни предпочли коллаборационизм, ту или иную степень признания оккупационных властей (Пьер Дриё Ля Рошель, Робер Бразийяк, Луи-Фердинан Селин), другие — эмиграцию (Андре Бретон, Бенжамен Пере, Жорж Бернанос, Сен-Жон Перс, Андре Жид), третьи присоединились к движению Сопротивления, видную роль в котором играли коммунисты. Андре Мальро под псевдонимом полковник Берже командовал бронетанковой колонной, поэт Рене Шар сражался в маки (партизанское движение; от фр. maquis — заросли кустарника) Прованса. Стихи Луи Арагона цитировал Ш. де Голль по радио из Лондона. Листовки со стихотворением «Свобода» Поля Элюара сбрасывали над территорией Франции английские самолеты. Общая борьба заставила писателей забыть о былых разногласиях: под одной обложкой (например, подпольно издававшегося в Алжире журнала «Фонтен») печатались коммунисты, католики, демократы, — «те, кто верил в небо» и «те, йчэ в него не верил», как писал Арагон в стихотворении «Роза и резеда». Был высок моральный авторитет тридцатилетнего А. Камю, ставшего главным редактором журнала «Комба» (Combat, 1944—1948). Публицистика Ф. Мориака на время затмила его славу как романиста.
Очевидно, что в первое послевоенное десятилетие на первый план выдвинулись литераторы, участвовавшие в вооруженной борьбе против немцев. Национальным комитетом писателей, созданным коммунистами во главе с Арагоном (в те годы убежденным сталинистом), были составлены «черные списки» писателей-«изменников», что вызвало волну протеста со стороны многих участников Сопротивления, в частности Камю и Мориака. Наступил период жесткой конфронтации между авторами коммунистического, прокоммунистического толка и либеральной интеллигенцией. Характерными публикациями этого времени стали выступления коммунистической печати против экзистенциалистов и сюрреалистов («Литература могильщиков» Р. Гароди, 1948; «Сюрреализм против революции» Р. Вайана, 1948).
В журналах политика и философия преобладали над литературой. Это заметно по персоналистскому «Эспри» (Esprit, гл. ред. Э. Мунье), экзистенциалистскому «Тан модерн» (Les Temps modernes, гл. ред. Ж. -П. Сартр), коммунистическому «Леттр франсез» (Les Lettres françaises, гл. ред. Л. Арагон), философско-социологическому «Критик» (Critique, гл. ред. Ж. Батай). Самый авторитетный предвоенный литературный журнал «Нувель ревю франсез» (La Nouvelle revue française) на некоторое время прекратил свое существование.
Художественные достоинства литературных произведений слов- но отодвинулись на второй план: от писателя ждали прежде всего моральных; политических, философских суждений. Отсюда по- нятие ангажированной литературы (litterature engagee, от фр. engagement — обязательство, поступление на службу доброволь- цем, политическая и идеологическая позиция), гражданственно- сти литературы.
В серии статей в журнале «Комба» Альбер Камю (Albert Camus, 1913—1960) утверждал, что долг писателя — быть полноправным участником Истории, неустанно напоминать политикам о совести, протестуя против всякой несправедливости. Соответственно в романе «Чума» (1947) он попытался нащупать те моральные ценности, которые могли бы объединить нацию. Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre, 1905—1980) пошел «еще дальше»: согласно его концепции ангажированной литературы, политика и литературное творчество нераздельны. Литература должна стать «социальной функцией», чтобы «помочь изменить общество» («Я думал, что отдаюсь литературе, а принял постриг», — писал он с иронией по этому поводу).
Для литературной ситуации 1950-х годов весьма показательна полемика между Сартром и Камю, приведшая к их окончательному разрыву в 1952 году после выхода эссе Камю «Бунтующий человек» (L"Homme revoke, 1951). В нем Камю сформулировал свое кредо: «Я бунтую, следовательно, мы существуем», но тем не менее осудил революционную практику, ради интересов нового государства узаконившую репрессии над инакомыслящими. Камю противопоставил революции (породившей Наполеона, Сталина, Гитлера) и метафизическому бунту (де Сада, Ивана Карамазова, Ницше) «идеальный бунт» — протест против недолжной действительности, который фактически сводится к самоусовершенствованию личности. Упрек Сартра Камю в пассивности и примиренчестве обозначил границы политического выбора каждого из этих двух писателей.
Политическая ангажированность Сартра, ставившего себе целью «дополнение» марксизма экзистенциализмом, привела его в 1952 году в стан «Друзей СССР» и «попутчиков» коммунистической партии (серия статей «Коммунисты и мир», «Ответ Альберу Камю» в «Тан модерн» за июль и октябрь—ноябрь 1952 г.). Сартр участвует в международных конгрессах в защиту мира, регулярно, вплоть до 1966 года, бывает в СССР, где с успехом ставятся его пьесы. В 1954 г. он даже становится вице-президентом Общества дружбы «Франция —СССР». «Холодная война» заставляет его сделать выбор между империализмом и коммунизмом в пользу СССР, подобно тому, как в 1930-е годы Р. Роллан видел в СССР страну, способную противостоять нацистам, дающую надежду на построение нового общества. Сартру приходится идти на компромиссы, которые он до этого осудил в своей пьесе «Грязные руки» (1948), в то время как Камю остается непримиримым критиком всех форм тоталитаризма, в том числе и социалистической действительности, сталинских лагерей, ставших после Второй мировой войны достоянием гласности.
Характерным штрихом в противостоянии двух писателей стало их отношение к «делу Пастернака» в связи с присуждением автору «Доктора Живаго» Нобелевской премии (1958). Известно письмо Камю (Нобелевского лауреата 1957 г.) Пастернаку с выражением солидарности. Сартр же, отказавшись от Нобелевской премии в 1964 г. («писатель не должен превращаться в официальное учреждение»), высказал сожаление, что Пастернаку дали премию раньше, чем Шолохову, и что единственное советское произведение, удостоенное такой награды, было опубликовано за границей и запрещено в своей стране.
Личность и творчество Ж. -П. Сартра и А. Камю оказали огромное влияние на интеллектуальную жизнь Франции 1940 — 1950-х годов. Несмотря на их разногласия, в сознании читателей и критиков они олицетворяли собой французский экзистенциализм, взявший на себя глобальную задачу решения главніьіх метафизических проблем бытия человека, обоснования смысла его существования. Сам термин «экзистенциализм» был введен во Франции философом Габриэлем Марселем (1889—1973) в 1943 г., а затем подхвачен критикой и Сартром (1945). Камю же отказывался признать себя именно экзистенциалистом, считая отправной точкой своей философии категорию абсурда. Однако несмотря на это, философско-литературное явление экзистенциализма во Франции обладало целостностью, что стало очевидно, когда ему на смену в 1960-е годы пришло другое увлечение — «структурализм». Историки французской культуры говорят об этих феноменах как об определяющих интеллектуальную жизнь Франции на протяжении тридцати послевоенных лет.
Реалии войны, оккупации, Сопротивления подтолкнули писателей-экзистенциалистов к разработке темы человеческой солидарности. Они заняты обоснованием новых основ человечности — «надежды отчаявшихся» (по определению Э. Мунье), «бытия-против-смерти». Так становятся возможными программное выступление Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм» (L"Existentialisme est un humanisme, 1946), а также формула Камю: «Абсурд есть метафизическое состояние человека в мире», однако «нас интересует не само по себе это открытие, а его следствия и правила поведения, из него извлекаемые».
Пожалуй, не стоит переоценивать вклад французских писателей-экзистенциалистов в развитие собственно философских идей «философии существования», имеющей глубокие традиции в немецкой (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс) и русской (Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов) мысли. В истории философии французскому экзистенциализму не принадлежит первое место, но в истории литературы оно, несомненно, остается за ним. Сартр и Камю — оба выпускники философских факультетов — уничтожили пропасть, существовавшую между философией и литературой, обосновали новое понимание литературы («Хотите философствовать — пишите романы», — говорил Камю). В связи с этим Симона де Бовуар (Simone de Beauvoir, 1908—1986), единомышленница и спутница жизни Сартра, в своих мемуарах приводит остроумные слова философа Реймона Арона, адресованные в 1935 г. ее мужу: «Видишь ли, если ты занимаешься феноменологией, ты можешь говорить об этом коктейле [разговор происходил в кафе] и это уже будет философия!». Писательница вспоминает, что Сартр, услышав это, буквально побледнел от волнения («Сила возраста» 1960).
Влияние экзистенциализма на послевоенный роман шло по нескольким линиям. Экзистенциалистский роман — роман, решающий проблему существования человека в мире и обществе обобщенно. Его герой — «весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой» (Сартр). Соответствующий сюжет в достаточной мере условен: герой блуждает (в прямом и переносном смысле) по пустыне жизни в поисках утраченных социальных и естественных связей, в поисках самого себя. Тоска по подлинному бытию имманентна человеку («ты не искал бы меня, если бы уже не нашел», — заметил Сартр). «Человек-скиталец» («homo viator», по терминологии Г. Марселя) испытывает состояние тревоги и одиночества, ощущение «затерянности» и «ненужности», которое может быть в той или иной степени наполнено общественным и историческим содержанием. Обязательно наличие в романе «пограничной ситуации» (термин К. Ясперса), в которой человек вынужден сделать нравственный выбор, то есть стать собой. Болезнь века писатели-экзистенциалисты лечат не эстетическими, а этическими средствами: обретением чувства свободы, утверждением ответственности человека за свою судьбу, права на выбор. Сартр заявлял, что для него главной идеей творчества было убеждение в том, что «от каждого произведения искусства зависит судьба вселенной». Он устанавливает особые отношения читателя с писателем, интерпретируя их как драматическое столкновение двух свобод.
Литературное творчество Сартра после войны открывает тетралогия «Дороги свободы» (Les Chemins de la liberté, 1945—1949). Четвертый том цикла «Последний шанс» (La Derniere chance, 1959) так и не был завершен, хотя публиковался в отрывках в журнале «Тан модерн» (под названием «Странная дружба»). Это обстоятельство можно объяснить политической ситуацией 1950-х годов. Каким должно быть участие героев в Истории с началом «холодной воины»? Выбор становился не столь очевиден, как выбор между коллаборационизмом и Сопротивлением. «Своей незавершенностью произведение Сартра напоминает о том этапе развития общества, когда герой осознает свою ответственность перед историей, но не имеет достаточно сил, чтобы делать историю», — заметил литературовед М. Зераффа.
Трагедия существования и непреодолимые идеологические про- тиворечия получают у Сартра не только прозаическое, но и сце- ническое воплощение (пьесы «Мухи», Les Mouches, 1943; «За закрытой дверью», Huis cios, 1944; «Почтительная потаскушка», La putain respectueuse, 1946; «Мертвые без погребения», Morts sans sépultures, 1946; «Грязные руки», Les Mains sales, 1948). Пьесы 1950-х годов отмечены печатью трагикомедии: анатомия государственной машины (примитивного антикоммунизма) становится темой пьесы-фарса «Некрасов» (Nekrassov, 1956), моральный релятивизм всякой деятельности на ниве Истории и общества постулируется в драме «Дьявол и Господь Бог» (Le Diable et le Bon Dieu, 1951).
Пьеса «Мухи», написанная Сартром по просьбе режиссера Шарля Дюлена и поставленная в период оккупации, объясняет причины, по которым Сартр обратился к театру. Его влекла не страсть к сцене, а возможность непосредственного воздействия на аудиторию. Ангажированный писатель, Сартр влиял на Историю, устами Ореста призывая соотечественников (униженный народ Аргоса) к сопротивлению оккупантам.
Однако созданный свободным, человек может так и не обрести свободу, оставшись пленником собственных страхов и неуверенности. Боязнь свободы и неспособность к действию свойственны главному герою драмы «Грязные руки» Гуго. Сартр считает, что «экзистенция» (существование) предшествует «эссенции» (сущности). Свобода как априорный признак человека в то же время должна быть обретена им в процессе существования. Имеются ли границы свободы? Ее пределом в этике Сартра становится ответственность. Следовательно, можно говорить о кантианской и христианской сущности экзистенциалистской этики (ср. с известными словами Ж. -Ж. Руссо: «Свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого»). Когда Юпитер предупреждает Ореста, что открытие им правды не принесет счастья народу Аргоса, а лишь погрузит его в еще большее отчаяние, Орест отвечает, что он не имеет права лишать народ отчаяния, так как «жизнь человека начинается по ту сторону отчаяния». Лишь осознав трагизм своего существования, человек становится свободным. Каждому требуется для этого собственное «путешествие на край ночи».
В пьесе «За закрытой дверью» (1944), которая в ходе работы над ней поначалу называлась «Другие», трое мертвых (Инее, Эстель и Гарсен) осуждены вечно пребывать в обществе друг друга, познавая смысл того, что «ад — это другие». Смерть положила предел их свободе, «за закрытой дверью» у них нет выбора. Каждый — судья другого, каждый старается забыть о присутствии соседа, но даже молчание «кричит им в уши». Присутствие другого отнимает у человека его лицо, он начинает видеть себя глазами другого. Зная, что его мысли, которые «тикают, как будильник», могут быть услышаны, он становится провокатором, не только марионеткой, жертвой, но и палачом. Подобным же образом Сартр рассматривал проблему взаимодействия «бытия-для-себя» (осознания себя как свободной личности с проектом собственной жизни) с «бытием-для-других» (ощущением себя под взглядом другого) в книге «Бытие и ничто» (1943).
Пьесы «Грязные руки» и «Затворники Альтоны» (Les Séquestrés d"Altona, 1959), отстоящие друг от друга на десятилетие, являются осмыслением коммунизма и нацизма. В пьесе «Грязные руки» Сартр (имевший перед глазами советский опыт построения социалистического общества) противопоставил личную мораль и революционное насилие. В одном из государств Центральной Европы накануне окончания войны коммунисты стремятся захватить власть. Страна (возможно, Венгрия) будет занята советскими войсками. Мнения членов компартии разделились: вступить ли ради успеха во временную коалицию с другими партиями или опереться на силу советского оружия. Один из лидеров партии, Хёдерер, выступает за коалицию. Противники подобного шага решают ликвидировать оппортуниста и поручают это Гуго, который становится секретарем Хёдерера (Сартр обыграл здесь обстоятельства убийства Л. Троцкого). После многих колебаний Гуго совершает убийство, но и сам погибает как ненужный свидетель. Он готов принять смерть.
Пьеса строится в виде размышлений Гуго о происшедшем — он ждет товарищей, которые должны объявить ему пригодор. Рассуждения Гуго о морали Хёдерер называет буржуазным анархизмом. Он руководствуется принципом, что «чистые руки — у тех, кто ничего не делает» (ср. с революционной формулой Л. Сен-Жюста: «Нельзя править безвинно»). Хотя Сартр заявлял, что «Гуго никогда не был ему симпатичен» и сам он считает позицию Хёдерера более «здоровой», по сути пьеса стала обличением кровавого сталинского террора (зарубежной деятельности советской разведки), и именно так она была воспринята зрителями и критикой.
Пьеса «Затворники Альтоны» — одна из самых сложных и глубоких пьес Сартра. В ней Сартр пытался изобразить трагедию XX века, как века исторических катастроф. Можно ли требовать личной ответственности от человека в эпоху коллективных преступлений, какими были мировые войны и тоталитарные режимы? Иначе говоря, вопрос Ф. Кафки о том, «может ли вообще человек считаться виновным», Сартр переводит в историческую плоскость. Принять свой век со всеми его преступлениями пытается «с упрямством побежденного» бывший нацист Франц фон Герлах. Пятнадцать лет после окончания войны он провел в затворе, преследуемый страшными воспоминаниями военных лет, которые он изживает в бесконечных монологах.
Комментируя пьесу «За закрытой дверью», Сартр писал: «Каков бы ни был круг ада, в котором мы живем, я думаю, что мы свободны его разрушить. Если люди его не разрушают, значит, они остаются в нем добровольно. Так добровольно они заключают себя в ад». Ад Франца — его прошлое и настоящее, так как историю нельзя повернуть вспять. Сколько Нюрнбергский суд ни говорил бы о коллективной ответственности за преступления, каждый — по логике Сартра, одновременно и палач и жертва, — будет переживать их по-своему. Ад Франца — не другие, а он сам: «Один плюс один равняется один». Единственный способ разрушить этот ад — саморазрушение. Франц ставит себя на грань безумия, а затем прибегает к самому радикальному способу самооправдания — кончает с собой. В финальном монологе, записанном перед самоубийством на магнитофонную ленту, он говорит о бремени своего выбора следующее: «Я вынес этот век на своих плечах и сказал: я за него отвечу. Сегодня и всегда». Пытаясь оправдать свое существование перед лицом будущих поколений, Франц утверждает, что он — дитя XX века и, следовательно, не вправе никого осуждать (в том числе отца; тема отцовства-сыновства также одна из центральных в пьесе).
«Затворники Альтоны» со всей очевидностью демонстрируют разочарование Сартра в ангажированной литературе, в жестком разделении людей на виновных и невиновных.
Не менее напряженно, чем Сартр, работал после войны А. Камю. Поэтика его «Постороннего» (1942) дает понять, отчего он не готов был назвать себя экзистенциалистом. Кажущаяся циничность повествования имеет двойную направленность: с одной стороны, вызывает ощущение абсурдности земного бытия, но, с другой стороны, за этой манерой Мерсо кроется простодушное приятие каждого мгновения (к этой философии автор приводит Мерсо перед казнью), способное наполнить жизнь радостью и даже оправдать человеческий удел. «Можно ли придать физической жизни моральные основания?», — спрашивает Камю. И сам же пытается ответить на этот вопрос: человек обладает естественными добродетелями, которые не зависят от воспитания и культуры (и которые общественные институты лишь искажают), такими, как мужественность, покровительство слабым, в частности женщинам, искренность, отвращение ко лжи, чувство независимости, любовь к свободе.
Если существование не имеет смысла, а жизнь — единственное благо, во имя чего рисковать ею? Рассуждение на эту тему привело писателя Жана Жионо (1895—1970) в 1942 г. к мысли о том, что лучше быть «живым немцем, чем мертвым французом». Известна телеграмма Жионо французскому президенту Э. Даладье по поводу заключения Мюнхенского соглашения (сентябрь 1938 г.), отсрочившего начало Второй мировой войны: «Мне не стыдно за мир, каковы бы ни были его условия». Мысль Камю двигалась в ином направлении, как это следует из эссе «Миф о Сизифе» (Le Mythe de Sisyphe, 1942). «Стоит ли жизнь труда быть прожитой», если «чувство абсурда может поразить человека в лицо на повороте любой улицы»? В эссе Камю решает «единственную действительно серьезную философскую проблему» — проблему самоубийства. Вопреки абсурду бытия он строит свою концепцию морали на рациональном и позитивном видении человека, который способен привносить порядок в изначальный хаос жизни, организовать его в соответствии с собственными установками. Сизиф, сын бога ветров Эола, за свою изворотливость и хитроумие был наказан богами и осужден вкатывать на крутую гору громадный камень. Но у самой вершины горы каждый раз камень срывается вниз, и «бесполезный труженик преисподней» снова принимается за свою тяжелую работу. Сизиф «учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал». Каждое мгновение Сизиф возвышается духом над своей судьбой. «Надо представлять себе Сизифа счастливым» — таков вывод Камю.
В 1947 г. Камю публикует роман «Чума» (La Peste), имевший оглушительный успех. Как и «Дороги свободы» Сартра, он выражает новое понимание гуманизма как сопротивления личности катастрофам истории: ... выход — не в банальном разочаровании, а в еще более упорном стремлении» к преодолению исторического детерминизма, в «лихорадке единения» с другими. Камю описывает воображаемую эпидемию чумы в городе Оране. Аллегория прозрачна: фашизм, как чума, расползался по Европе. Каждый герой проходит свой путь, чтобы стать борцом против чумы. Доктор Риё, выражающий позицию самого автора, подает пример великодушия и самоотверженности. Другой персонаж, Тарру, сын богатого прокурора, на основе своего жизненного опыта и в результате поисков «святости без Бога» приходит к решению «во всех случаях становиться на сторону жертв, чтобы как-нибудь ограничить размах бедствия». Эпикуреец журналист Рамбер, стремящийся уехать из города, в конце концов, остается в Оране, признав, что «стыдно быть счастливым в одиночку». Лаконичный и ясный стиль Камю не изменяет ему и на этот раз. Повествование подчеркнуто безлично: только к концу читатель понимает, что ведется оно доктором Риё, стоически, подобно Сизифу, выполняющим свой долг и убежденным в том, что «микроб — это естественно, а остальное — здоровье, честность, чистота, если хотите, — это результат воли».
В своем последнем интервью Камю на вопрос, можно ли его самого считать «посторонним» (по видению мира как всеобщего страдания), ответил, что изначально он и был посторонним, но его воля и мысль позволили ему преодолеть свой удел и сделали его существование неотделимым от времени, в которое он живет.
Театр Камю (драматургией писатель занялся одновременно с Сартром) насчитывает четыре пьесы: «Недоразумение» (Le Malentendu, 1944), «Калигула» (Caligula, 1945), «Осадное положение» (L"État de siège, 1948), «Справедливые» (Les Justes, 1949). Особенно интересна последняя пьеса, созданная по мотивам книги «Воспоминания террориста» Б. Савинкова. Камю, который пристально изучал проблему революционного насилия, обратился к опыту русских эсеров-террористов, пытаясь выяснить, как благие намерения, самоотверженность могут сочетаться с утверждением права на убийство (позднее он анализирует эту ситуацию в эссе «Бунтующий человек»). Основой морали террористов является их готовность отдать свою жизнь взамен отнятой у другого. Лишь при соблюдении этого условия индивидуальный террор ими оправдан. Смерть уравнивает палача и жертву, иначе любое политическое убийство становится «подлостью». «Начинают с жажды справедливости, а кончают тем, что руководят полицией», — доводит эту мысль до логического конца начальник департамента полиции Скуратов. Планируемое, а затем и осуществленное убийство великого князя Сергея Александровича сопровождается спором революционеров о цене революции, ее жертвах. Бомбометатель Каляев нарушил приказ Организации и не бросил бомбу в карету великого князя, так как в ней были дети. Каляев хочет быть не убийцей, а «творцом правосудия», ведь если пострадают дети, народ «возненавидит революцию». Однако не все революционеры думают так. Степан Федоров убежден, что революционер имеет «все права», в том числе и право «переступить через смерть». Он считает, что «честь — роскошь, которую себе могут позволить лишь владельцы карет». Парадоксальным образом любовь, во имя которой действуют террористы, тоже оказывается непозволительной роскошью. Героиня пьесы Дора, которая любит «благородного» террориста Каляева, сформулировала это противоречие: «Если единственный выход — смерть, мы не на правильном пути... Сначала любовь, а справедливость потом». Любовь к справедливости несовместима с любовью к людям, таков вывод Камю. Бесчеловечность грядущих революций уже заложена в этой антиномии.
Камю считает иллюзорной всякую надежду на то, что революция может стать выходом из ситуации, которой она вызвана. Закономерным в связи с этим было обращение Камю к опыту Ф. М. Достоевского. Помимо оригинальных пьес Камю написал сценический вариант романа «Бесы» (1959). В Достоевском, высоко ценимом им, писателя восхищала способность распознать нигилизм в самых разных обличиях и найти пути его преодоления. «Справедливые» Камю — один из лучших образцов театра «пограничных ситуаций», столь плодотворного в 1950-е годы.
Последний роман Камю «Падение» (La Chute, 1956), несомненно, наиболее загадочное его произведение. Оно и имеет глубоко личный характер, и, вероятно, обязано своим появлением полемике автора с Сартром по поводу эссе «Бунтующий человек» (1951). В споре с левой интеллигенцией, «уличавшей» Камю в прекраснодушии, он вывел в «Падении» «лжепророка, которых так много развелось сегодня», — личность, охваченную страстью к обвинению других (разоблачению своего века) и самообвинению Однако Кламанс (его имя взято из выражения «vox clamans іn deserto» — «глас вопиющего в пустыне») воспринимается, по мнению биографов писателя, скорее как некий двойник самого Камю чем как карикатура на Сартра. Одновременно он напоминает племянника Рамо из одноименного сочинения Д. Дидро и героя «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского. В «Падении» Камю виртуозно использовал театральную технику (монолог героя и имплицитный диалог), превратив своего героя в трагического актера.
Одним из вариантов экзистенциалистского романа стал персоналистский роман, образцов которого довольно мало, так как вокруг главного теоретика этого философского течения Э. Мунье объединились в основном философы и критики, а не писатели. Исключение составляет Жан Кейроль (Jean Cayrol, p. 1911). Сартр, думается, не без оснований заметил, что «в жизни каждого человека есть уникальная драма», которая составляет суть его жизни. Драма, пережитая Кейролем, участником Сопротивления, узником концлагеря Маутхаузен, имела измерение, позволяющее вспомнить о ветхозаветном Иове. Писатель попытался ответить на вопросы, порожденные его жизненным опытом: «Узник вернулся, хотя казался обреченным. Почему он вернулся? Почему именно он вернулся? В чем смысл смерти других?»
Ответом на эти вопросы стала трилогия «Я буду жить любовью других» (Je vivrai l"amour des autres, 1947—1950). Первые два тома трилогии «С вами говорят» (On vous parle) и «Первые дни» (Les Premiers jours, 1947) были удостоены премии Ренодо (1947) и принесли писателю широкую известность. Роман «С вами говорят» написан от первого лица и представляет собой монолог безымянного персонажа. Кейроль первым показал «человека толпы» (в отличие от Рокантена и Мерсо, отмеченных печатью исключительности), так как из опыта войны вынес убеждение в том, что «обыкновенный человек — это и есть самое необыкновенное». Из сбивчивой исповеди повествователя мы узнаем о некоторых фактах его детства, юности, о заключении в концлагере, о подробностях его теперешней жизни, проходящей в поисках работы и в вечном страхе потерять крышу над головой, — словом, о его внутренней жизни, сотканной из воспоминаний и размышлений.
Сюжетный стержень романа — блуждания рассказчика по городу. Встречи с людьми на улицах, разговоры с соседями по квартире, в которой он снимает угол, — этим ограничивается внешняя канва романа. Вместе с тем за счет евангельских реминисценций Кейроль придает субъективным переживаниям персонажа почти космический масштаб: он не только «первый встречный», но представляет собой весь человеческий род.
«Моя жизнь — открытая дверь» — таков принцип существования персонажа Кейроля. Вот он встречает своего бывшего товарища по заключению Робера, который зарабатывает себе на жизнь увеличением фотографий, и берет его перед лицом читателя под зашиту: «Имейте в виду, если вам встретится тип, который предложит увеличить фотографии, не отказывайте ему. Ему нужно это не для того, чтобы выжить, но чтобы верить, что он живет». Готовность сочувствовать человеку — это то, что, по мнению писателя, делает человека человеком, и подобное качество присуще его герою.
Проблему выбора жизненного пути герой Кейроля решает не в пользу общества. Включиться в жизнь общества для него означает предать себя, утратить человеческое достоинство: «Упряжь не разговаривает, и с ней не разговаривают». Символичен эпизод, когда герой находит на мостовой стофранковый билет. При его нищенском существовании банкнота кажется ему пропуском в новую жизнь, но «представьте себе, я так и не потратил те деньги; никогда... Может быть, придет день, когда я перестану бояться стать одним из вас... Я не хочу есть, слишком велик мой голод». То, что в плане событийном выглядит неправдоподобным, в плане философии поступка полно смысла. Ценности, предлагаемые герою окружающим обществом (личный и материальный успех), не являются в его глазах подлинными. Чего же он жаждет? «Он в поисках жизни, которая была бы Жизнью», — говорит Кейроль о своем повествователе в предисловии. Кейролевский герой живет интенсивной духовной жизнью, ищет высокий смысл в повседневности.
«Нас сжигает огонь, не нами зажженный» — подобное духовное беспокойство снедает протагонистов Ф. Мориака и Ж. Бернаноса, они отказываются принять мир таким, каков он есть. В романе предложены два пути противостояния недолжному миропорядку и верности идеалам человечности и сострадания. С одной стороны, это творчество. Кейролевский герой мечтает написать «роман, в котором одиночество взорвется, как солнце». С другой — это страдание. Оно перерождает человека, принуждает его к большой, и не только эстетической, внутренней работе. Таким образом, автор ищет возможность подлинного самоосуществления личности, что соответствует персоналистской концепции «заново рожденного человека». (Ср.: «Произведение искусства вовлекает личность в "продуктивное воображение"; художник, соперничая с миром и превосходя его, сообщает индивидам новые ценности, заставляет человека как бы заново родиться — таков наиболее важный — Демиургический аспект художественного творчества», Э. Мунье.)
Само заглавие трилогии: «Я буду жить любовью других», явно противостоит тезису Ж. -П. Сартра о том, что «ад — это другие» (1944). Кейроль настаивает на «открытой позиции» по отношению к «другому», как это было характерно для персонализма Э. Мунье, усвоившего круг тем и проблем, обсуждаемых в нерелигиозных философиях, прежде всего в экзистенциализме и марксизме. Однако пути преодоления кризиса предполагались принципиально иные. В их основе — проповедь нравственного самоусовершенствования, воспитание окружающих личным примером «открытости» людям, отрицание «безответственности и эгоизма», индивидуализма.
Важный документ творческой биографии Кейроля — эссе «Лазарь среди нас» (Lazare parmi nous, 1950). История воскрешения Лазаря (Евангелие от Иоанна, гл. 12) увязана автором с собственным опытом «воскресения из мертвых». Задумываясь над тем, почему он смог выжить в нечеловеческих условиях концлагеря, Кейроль приходит к убеждению, что объяснить это можно только неуязвимостью человеческой души, ее многообразной и бесконечной способностью к творчеству, к воображению, которое он называет «сверхъестественной защитой человека».
С экзистенциалистской точки зрения, существование концлагерей было аргументом в пользу признания абсурдности мира, как об этом свидетельствует Давид Руссе (1912—1919). Вернувшись из заключения в концлагере, Руссе опубликовал два эссе: «Концентрационный мир» (L"Univers concentrationnaire, 1946) и «Дни нашей смерти» (Les Jours de notre mort, 1947). В них он сделал попытку философского анализа «мира концлагерей», ввел в послевоенную французскую литературу понятие «концентрационната», «концентрационной повседневности», увидев в событиях Второй мировой войны подтверждение абсурдности истории.
Кейроль возражал Руссе. Абсурд не всевластен, пока существует человек: «Он борется и нуждается в помощи». Поэтому писатель искал точку опоры для этой борьбы, взяв за основу тезис о нацеленности человека на должное бытие, на «доразвитие» реальности, которая «не замыкается в себе самой, а находит свое завершение за пределами себя, в истине». Тоска «по бытию «высшего порядка» выявляет черты романтического мировосприятия, свойственного Кейролю и персонализму в целом: «Наше ближайшее будущее — почувствовать концлагерь в душе. Нет концентрационного мифа, есть концентрационная повседневность. Мне кажется, настало время засвидетельствовать эти странные толчки Концентрационата, его робкое еще проникновение в мир, рожденный великим страхом, на нас его стигматы. Искусство, рожденное прямо из человеческой конвульсии, из катастрофы, должно было бы называться "лазаревским" искусством. Оно уже формируется в нашей литературной истории».
Писатели-экзистенциалисты не создали нового типа дискурса и использовали традиционные разновидности романа, эссе, драмы. Не создали они и литературной группы, оставаясь некими «одиночками» в поисках солидарности (solitaire et solidaire — ключевые слова в их мировоззрении): «Одиночки! скажете вы презрительно. Быть может так, сейчас. Но как одиноки вы будете без этих одиночек» (А. Камю).
В 1960-е годы со смертью А. Камю наступает заключительный этап эволюции экзистенциализма — подведение итогов. Большим успехом пользуются «Мемуары» Симоны де Бовуар («Воспоминания благовоспитанной девушки», Mémoires d"une jeune filie rangée, 1958; «Сила возраста», La Force de Гâge, 1960; «Сила вещей», La Force des choses, 1963), автобиографический роман Сартра «Слова» (Les Mots, 1964). Давая оценку своему творчеству, Сартр замечает: «Я долго принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они все же полезны. Культура никого и ничего не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он свой облик».
В последние годы жизни Сартр в большей степени занимался политикой, чем литературой. Он руководил крайне левыми газетами и журналами, такими, как «JTa Коз дю пёпль» (La Cause du peuple, «Дело народа»), «Либерасьон» (Libération, «Освобождение»), поддерживая все движения протеста, направленные против существующей власти, и отвергая альянс с коммунистами, ставшими к этому времени его идеологическими противниками. Пораженный слепотой в 1974 году, Сартр умер весной 1980 года (см. воспоминания о последних годах жизни Сартра в книге Симоны де Бовуар «Церемония прощания», La cérémonie des adieux, 1981).
Отличным от сартровского вариантом философии экзистенциализма в действии стало творчество А. Мальро (André Malraux,
1901 — 1976). Андре Мальро — человек-легенда, автор прогремевших до войны романов «Королевская дорога» (La Voie royale, 1930), «Удел человеческий» (La Condition humaine, 1933), «Надежда» (L"Espoir, 1937). Один из руководителей Сопротивления на юге страны, полковник маки, командир бригады «Эльзас-Лотарингия», Мальро был неоднократно ранен, попадал в плен. В 1945 г. он познакомился с де Голлем и с этого момента остался до конца жизни его верным соратником. В первом послевоенном правительстве стал министром информации, четыре года спустя — генеральным секретарем деголлевской партии, в 1958 г. — министром культуры.
Хотя после 1945 года Мальро романов больше не публикует, он продолжает активную литераторную деятельность (эссеистика, мемуары). Отчасти меняются его жизненные установки: независимый сторонник социализма в 1930-е годы, после войны он ведет борьбу против сталинского тоталитаризма; прежде убежденный интернационалист, теперь он возлагает все свои надежды на нацию.
Свой последний роман «Орешники Алътенбурга» (LesNoyersde l"Altenburg, швейцарское изд. — 1943, фр. изд. 1948) Мальро представил как первую часть романа «Битва с ангелом», который был уничтожен фашистами (автор счел невозможным писать его заново). В нем отсутствует единство места и времени, характерное для предыдущих произведений Мальро, имеются черты разных жанров: автобиографии, философского диалога, политического романа, военной прозы. Речь в романе идет о трех поколениях респектабельной эльзасской семьи Берже (под этим псевдонимом воевал сам Мальро). Дед рассказчика Дитрих и его брат Вальтер, друзья Ницше, накануне 1914 года организуют философские коллоквиумы в монастыре Альтенбург, в которых участвуют известные немецкие ученые и писатели, решая вопрос о трансцендентности человека (прообразом этих коллоквиумов послужили беседы самого Мальро с А. Жидом и Р. Мартен дю Гаром в аббатстве Понтийи, где в 1930-е годы проводились встречи европейских интеллектуалов). Отец рассказчика Винсен Берже, участник войны 1914 года, на русском фронте познал ужас первого применения химического оружия. Сам же рассказчик начинает свое повествование воспоминанием о лагере французских пленных (в числе которых он был) в Шартрском соборе в июне 1940 года и заканчивает книгу эпизодом военной кампании того же года, когда он, командуя экипажем танка, оказался в противотанковом рву под перекрестным огнем врага и чудом остался жив: «Теперь я знаю, что означают античные мифы о героях, вернувшихся из царства мертвых. Я почти не вспоминаю об ужасе; я несу в себе разгадку тайны, простой и священной. Так, наверное, Бог смотрел на первого человека».
В «Орешниках Альтенбурга» обозначены новые горизонты мысли Мальро. Героическое действие — стержень его первых романов — отходит на второй план. Речь по-прежнему идет о том, как преодолеть тревогу и победить смерть. Но теперь победу над судьбой Мальро видит в художественном творчестве.
Символичен один из самых ярких эпизодов романа, когда впавшего в безумие Фридриха Ницше друзья везут на родину, в Германию. В туннеле Сен-Готард, в темноте вагона третьего класса вдруг раздается пение Ницше. Это пение пораженного безумием человека преобразило все вокруг. Вагон был тот же, но в его темноте заблестело звездное небо: «Это была жизнь — я говорю просто: жизнь... миллионы лет звездного неба показались мне сметенными человеком, как сметает звездное небо наши бедные судьбы». Вальтер добавляет: «Самая великая тайна — не в том, что мы брошены на волю случая в мире материи и звезд, а в том, что в этой тюрьме мы способны вынуть из себя достаточно мощные образы, чтобы не согласиться с тем, что мы ничто» («піег notre néant»).
Все послевоенное творчество Мальро — книги эссе «Психология искусства» (Psychologie de l"art, 1947—1949), «Голоса безмолвия» (Les Voix du silence, 1951), «Воображаемый музей мировой скульптуры» (Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, 1952— 1954), «Метаморфозы богов» (La Metamorphose des dieux, 1957— 1976) — посвящено размышлениям об искусстве как «антисудьбе».
Вслед за О. Шпенглером Мальро ищет черты сходства исчезнувших и современных цивилизаций в едином пространстве культуры и искусства. Мир искусства, созданный человеком, не сводится к реальному миру. Он «обесценивает реальность, как ее обесценивают христиане и любая другая религия, обесценивают своей верой в привилегию, надежду, что человек, а не хаос несет в себе источник вечности» («Голоса безмолвия»). Интересно замечание критика К. Руа: «Теоретик искусства, Мальро не описывает произведения искусства в их многообразии: он пытается собрать их, слить их в одно перманентное произведение, в вечное настоящее, постоянно возобновляющуюся попытку бегства от кошмара истории. <...> В 23 года в археологии, в 32 года в революции, в 50 лет в историографии искусства Мальро ищет религию».
1967 году Мальро опубликовал первый том «Антимемуаров» (Antimémoires). В них, в соответствии с названием, нет воспоминаний детства писателя, нет и рассказа о личной жизни («разве важно то, что важно только для меня?»), нет воссоздания фактов собственной биографии. Речь же идет в основном о последних двадцати пяти годах его жизни. Мальро начинает с конца. Реальность переплетается с вымыслом, в неожиданных контекстах оживают персонажи его ранних романов, героями повествования становятся вожди наций (де Голль, Неру, Мао Цзэдун). Героические судьбы торжествуют над смертью и временем. Композиционно «Антимемуары» складываются вокруг нескольких диалогов, которые вел Мальро с генералом де Голлем, Неру и Мао. Мальро выносит их за рамки своей эпохи, помещает в своего рода вечность. Разрушительному характеру времени он противопоставляет героику прометеевского начала — деяния человека, «тождественные мифу о нем» (высказывание Мальро о де Голле, приложимое к нему самому).
В 1960-е годы новые тенденции философии, гуманитарных наук и литературы вели в сторону, противоположную заботам экзистенциалистов. Писатель, пытающийся решить все проблемы культуры и истории, вызывает как уважение, так и недоверие. Особенно оно свойственно структуралистам. Ж. Лакан начинает говорить о «децентрировании субъекта», К. Леви-Стросс утверждает, что «цель гуманитарных наук — не конституирование человека, а его растворение», М. Фуко высказывает мнение, что человек может «исчезнуть, как рисунок на песке, смытый прибрежной волной».
Философия удаляется от экзистенциальных тем и занимается структурированием знания, построением систем. Соответственно новая литература обращается к проблемам языка и речи, пренебрегает философско-нравственной проблематикой. Более актуальным становится творчество С. Бекетта и его интерпретация абсурда как нонсенса.
В 1970-е годы можно констатировать, что экзистенциализм полностью утратил свои ведущие позиции, однако не стоит недооценивать его глубокого опосредованного влияния на современную литературу. Возможно, Бекетт идет дальше в развитии понятия абсурда, чем Камю, а театр Ж. Жене превосходит драматургию Сартра. Очевидно, однако, что без Камю и Сартра не было бы ни Бекетта, ни Жене. Влияние французского экзистенциализма на послевоенную литературу Франции сравнимо с влиянием сюрреализма после Первой мировой войны. Каждое новое поколение писателей вплоть до настоящего времени вырабатывало свое отношение к экзистенциализму, к проблеме ангажированности.
Луи Арагон (Louis Aragon, наст, имя — Луи Андрие, Louis Andrieux, 1897— 1982) также, как Мальро, Сартр, Камю, относится к числу ангажированных писателей. Это вылилось у него в приверженность коммунистическим идеям. Если А. Жида к увлечению коммунизмом привело чтение Евангелия, то Арагона захватила идея социальной революции, к которой он пришел от идеи революции в искусстве, будучи одним из основоположников сюрреализма. Ему понадобилось десять лет художественных экспериментов в кругах «золотой молодежи», чтобы затем освоить метод, названный им «социалистическим реализмом», и воссоздать эпоху 1920— 1930-х годов в романах цикла «Реальный мир» («Базельскйе колокола», Les Cloches de Bâle, 1934; «Богатые кварталы», Les Beaux quartiers, 1936; «Пассажиры империала», Les Voyageurs de l"іmрéгіаlе, 1939, 1947; «Орельен», Aurélien, 1944) и «Коммунисты» (LesCommunistes, 1949—1951, 2-я ред. 1967—1968).
Активный участник Сопротивления, член ЦК компартии Франции, Арагон на страницах газеты «Леттр франсез» старался, хотя и не всегда последовательно (увлекаясь творчеством Ю. Тынянова, В. Хлебникова, Б. Пастернака), проводить линию партии в искусстве. Но после XX съезда КПСС он осуществляет ревизию своих прежних политических взглядов. В романе «Страстная неделя» (La Semaine sainte, 1958) им имплицитно проводится параллель между смутным временем наполеоновских ста дней и развенчанием сталинского культа личности. Стержнем романа оказываются предательство офицерами Наполеона (и соответственно коммунистами — Сталина) и их чувство вины. В романе «Гибель всерьез» (La Mise à mort, 1965) особый интерес представляют описание похорон А. М. Горького (в чьей судьбе писатель видел прообраз собственного пути) и размышления Арагона о границах реализма: «За долгую жизнь мне не раз случалось быть очевидцем событий, которые поначалу не казались чем-то особенно значительным. И когда позднее я постигал их смысл, то чувствовал себя простофилей: ведь видеть и не понять — все равно, что не видеть вовсе. <...> Я только и видел, что роскошные, отделанные мрамором и украшенные скульптурами станции метро. Вот и толкуйте после этого о реализме. Факты бросаются в глаза, а вы отворачиваетесь от них с прекраснодушными суждениями... Такая нескладная штука жизнь. А мы все тщимся найти в ней смысл. Все тщимся... Наивные люди. Можно ли верить художнику? Художники сбиваются с пути, заблуждаются: "то он спутник, то преступник"».
«Мы пользуемся книгами как зеркалами, в которьж пытаемся найти свое отражение», — пишет Арагон в послесловии к роману. Двойник героя Антоан — это Арагон-сталинист, которого как бы хочет убить в себе («гибель всерьез») сам писатель. Он вроде бы способен пойти на такой шаг безнаказанно («Гёте не обвинили в убийстве Вертера, не отдали под суд и Стендаля из-за Жюльена Сореля. У меня, если я убью Антоана, хотя бы будут смягчающие обстоятельства...»). Но оказывается, Антоана-сталиниста нельзя убить. Во-первых, потому что он «давно мертв», а во-вторых, по- тому, что «пришлось бы вместо него ходить на собрания». Словом, прошлое живет в нас, его не так просто похоронить.
Пражские события 1968 года примирили Арагона с собственным отпадением от коммунизма советского образца. Он перестает заботиться о том, чтобы соответствовать своей роли ортодоксального члена партии — выступает в защиту А. Солженицына, А. Синявского, Ю. Даниэля, ходатайствует перед советским правительством об освобождении из тюрьмы кинорежиссера С. Параджанова. Его газета «Леттр франсез» в начале 1970-х годов закрывается.
Совсем иначе проблема ангажированности предстает на примере творчества Луи-Фердинана Селина (Louis-Ferdinand Céline, наст, имя — Луи-Фердинан Детуш, Louis Ferdinand Destouches, 1894—1961). «Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, он всего-навсего индивид» — эти слова Селина (пьеса «Церковь», 1933), послужившие эпиграфом к «Тошноте» Сартра, приложимы к самому Селину, отказавшемуся признать ответственность человека перед обществом.
Посмертная судьба этого писателя не менее удивительна, чем его жизнь: по мнению критики, ни у кого из французских писателей XX века в настоящее время нет более прочного литературного статуса, чем у него. Его «черный лиризм», сопровождающийся деконструкцией-реконструкцией синтаксиса французского языка, представляет собой художественное достижение, сопоставимое по значимости с сонетами С. Малларме и прозой М. Пруста. Помимо художественных достоинств стиля на многих французских писателей XX века (в их числе Сартр и Камю) повлияла общая интонация селиновских произведений. «Родство Сартра и Селина бросается в глаза. Очевидно, что "Тошнота" (1938) прямо вытекает из "Путешествия на край ночи" (1932) и "Смерти в кредит" (1936). То же раздражение, предвзятость, желание всюду видеть безобразное, абсурдное, отвратительное. Примечательно, что два самых великих французских романиста XX века, как бы ни были они далеки друг от друга, едины в своем отвращении к жизни, ненависти к существованию. В этом смысле астма Пруста — аллергия, принявшая характер общей болезни, — и антисемитизм Селина сходны, послужили кристаллической основой для двух различных форм неприятия мира», — пишет о Селине писатель-постмодернист М. Турнье.
Во время Первой мировой войны Селин был мобилизован и в двадцать лет оказался на фронте, получил ранение в руку. Участие в войне стало для Селина той самой уникальной драмой, которая определила его дальнейшую жизнь. Врач по образованию, он имел все предпосылки сделать карьеру: в 1924 году блестяще защитил диссертацию, выступал с докладами в Академии наук, ездил в командировки в Северную Америку, Африку и Европу, а в 1927-м открыл частную практику. Однако сфера его подлинных интересов оказалась иной. Не порывая окончательно с профессией врача, Селин начинает писать и сразу же становится знаменитым: его первые романы «Путешествие на край ночи» (Voyage au bout de la nuit, премия Ренодо 1932) и «Смерть в кредит» (Mort à crédit, 1936) произвели эффект разорвавшейся бомбы. Эпатирующее содержание романов усиливалось их необыкновенной стилистической самобытностью.
Материалом для «Путешествия...» послужил жизненный опыт писателя: воспоминания о войне, знание колониальной Африки, поездки в США, бурно переживавшие в первую треть века триумф промышленного капитализма, а также врачебная практика в бедном пригороде Парижа. Пикарескный герой романа, Бардамю, рассказывает свою историю от первого лица, рисуя перед читателем безжалостную панораму абсурдности жизни. Провокативна идеология этого антигероя, но еще более провокативен его язык. С. де Бовуар вспоминала: «Многие отрывки из этой книги мы знали наизусть. Его анархизм казался нам сродни нашему. Он атаковал войну, колониализм, посредственность, общие места, социум в таких стиле и тональности, которые нас увлекли. Селин отлил новое орудие: письмо такое же живое, как устная речь. Какое удовольствие мы получали от него после застывших фраз Жида, Алена, Валери! Сартр схватил его суть; окончательно отказался от чопорного языка, которым пользовался до сих пор».
Однако предвоенные антисемитские памфлеты Селина и демонстративный коллаборационизм («Чтобы стать коллаборационистом, я не ждал, пока Комендатура вывесит свой флаг над отелем "Крийон"») во время Второй мировой войны привели к тому, что его имя почти исчезло с литературного горизонта, хотя в 1940— j950-е годы им были написаны и опубликованы роман о его пребывании в Лондоне в 1915 г. «Марионетки» (Guignol"s Band, 1944), повесть «Траншея» (Casse-pipe, 1949), а также записки о бомбардировках 1944 г. и пребывании в политической тюрьме «Феерия для иного случая» (Féerie pour une autre fois, 1952) и продолживший их очерк «Нормане» (Normance, 1954).
В 1944 году после краха правительства Виши Селин бежит в Германию, затем в Данию. Движение Сопротивления приговорило его к смертной казни. Сартр писал о том, что Селин «был куплен» нацистами («Портрет антисемита», 1945). Дания отказалась его выдать, тем не менее в Копенгагене писателя отдали под суд и приговорили к четырнадцати месяцам тюрьмы, проживанию под надзором полиции. В 1950 году Селин был амнистирован, получил возможность вернуться во Францию, что и сделал в 1951-м.
Во Франции Селин много работает и вновь начинает печататься, хотя ему трудно было ожидать непредвзятого отношения к себе и своему творчеству. Только после смерти Селина началось его второе рождение в качестве крупнейшего писателя, проложившего новые пути в литературе. Для литературной Франции конца XX века он оказался такой же знаковой фигурой, как Дж. Джойс для Англии и У Фолкнер для США.
Селин объяснял свой творческий замысел исключительно как попытку передачи индивидуальной эмоции, которую необходимо изжить. Профетизм, свойственный его произведениям, свидетельствует о том, что писателю доставляла мрачное удовольствие роль Кассандры: один против всех.
Автобиографические хроники «Из замка в замок» (D"un château l"autre, 1957), «Север» (Nord, 1960) и изданный посмертно роман «Ригодон» (Rigodon, 1969) описывают апокалипсическое путешествие Селина в сопровождении жены Лили, кота Бебера и друга- актера Ле Вигана по охваченной огнем Европе. Путь Селина лежал сначала в Германию, где в замке Зигмаринген он присоединился к агонизировавшему вишистскому правительству в изгнании и несколько месяцев работал врачом, леча коллаборационистов. Затем, выхлопотав через друзей разрешение на выезд, Селин под бомбами союзной авиации на последнем поезде сумел добраться до Дании. Объясняя свое намерение изобразить предсмертные дни правительства Петена, Селин писал: «Я говорю о Петене, Лавале, Зигмарингене, это момент истории Франции, хочешь не хочешь; может быть, печальный, о нем можно сожалеть, но это момент истории Франции, он имел место и когда-нибудь о нем будут говорить в школе». Эти слова Селина требуют если не сочувствия, то понимания. В условиях полного военного поражения правительство маршала Петена (национального героя Первой мировой войны) сумело добиться разделения страны на две зоны, в результате чего многие из желавших покинуть Францию смогли сделать это через юг страны.
«Кружевной» стиль трилогии, написанной от первого лица (как и все селиновские произведения), передает ощущение всеобщего хаоса, неразберихи. Однако герой, прототипом которого является сам автор, одержим желанием выжить во что бы то ни стало, он не хочет признать себя побежденным. Пародийный тон трагикомического повествования скрывает бурю чувств и сожалений в его душе.
Кажущаяся легкость разговорной манеры Селина — результат упорной и продуманной работы («пятьсот печатных страниц равняются восьми тысячам рукописных»). Писатель Р. Нимье, большой поклонник творчества Селина, характеризовал его так: «"Север" преподносит скорее урок стиля, чем урок морали. В самом деле, автор не дает советов. Вместо того, чтобы нападать на Армию, Религию, Семью, он постоянно говорит об очень серьезных вещах: смерти человека, его страхе, его трусости».
Трилогия охватывает период с июля 1944 года по март 1945-го. Но хронология не выдержана: первым должен был бы стать роман «Север», а действие романа «Ригодон» неожиданно для читателя обрывается на самом интересном месте. Нестройное повествование, не вмещающееся в рамки какого-либо жанра, проникнуто ностальгическими воспоминаниями о прошлом. Очутившийся на перекрестке Истории, герой пытается отдать себе отчет в происходящем и подыскать себе оправдание. Селин творит свой собственный миф: он — великий писатель («можно сказать, единственный гений, и не важно, проклятый или нет»), жертва обстоятельств. Изображенная Селином пляска смерти и атмосфера всеобщего безумия работает на создание образа экстравагантного бунтаря-одиночки. Вопрос о том, кто безумнее — непонятый пророк или окружающий мир, — остается открытым: «Каждый человек, который говорит со мной, в моих глазах мертвец; мертвец в отсрочке, если хотите, живущий случайно и один миг. Во мне самом живет смерть. И она меня смешит! Вот что не нужно забывать: мой танец смерти меня забавляет как безграничный фарс... Поверьте мне: мир забавен, смерть забавна; вот почему мои книги забавны и в глубине души я весел».
В противовес ангажированной литературе в 1950-е годы начи- нается увлечение Селином. Движение контркультуры в 1968 г. также поднимает его на щит как антибуржуазного писателя и сво- его рода революционера. К концу XX века творчество Селина ста- новится в работах теоретиков постмодернизма (Ю. Кристева) ан- титезой всей предшествующей словесности.
Подобной же, на первый взгляд, маргинальной, а по сути знаковой литературной фигурой стал Жан Жене (Jean Genet, 1910— 1986). Он не принадлежал к какой-либо школе, не следовал установкам экзистенциализма. Тем не менее, когда в 1951 году издательство «Галлимар» начало публиковать собрание сочинений Жене, то краткое предисловие к нему было заказано Сартру. Работа над ним переросла в работу над довольно объемной книгой «Святой Жене, комедиант и мученик» (1952), написанной в русле экзистенциалистского психоанализа (чтение этой книги вызвало у Жене депрессию и творческий кризис). Сартр отнес Жене к кругу писателей, близких к экзистенциализму, на основании того, что он был вечным изгоем — и как человек, с детства оказавшийся на дне общества, и как художник-маргинал. В этой посылке была определенная правда: воспитанник сиротского приюта, несовершеннолетний преступник, завсегдатай исправительных учреждений, вор, значительную часть жизни проведший в тюрьме, Жене мифологизирует воровское сообщество, сближая его символику (восходящую, как он считает, к первомифам человеческого сознания) с экзистенциалистским видением мира.
Ключом к его драмам и романам может послужить древнегреческая трагедия с ее категориями необходимости (ананке) и судьбы (мойра). Хотя персонажи Жене принадлежат не к поколению героев, а к самому низшему в общественной иерархии социальному слою (преступившие закон), писатель возвеличивает их, поэтизирует их страсти. Сами названия его романов — «Богоматерь Цветов» (Notre-Dame-des-fleurs, 1944), «Чудо о розе» (Miracle de la rose, 1946), «Погребальный обряд» (Pompes funèbres, 1948) — свидетельствуют о безудержном стремлении писателя заклясть мир тюрем, преступников и убийц путем сублимации архетипинеских человеческих страстей («увидеть себя таким, каким не сумею или не осмелюсь себя представить, но каким на самом деле являюсь»).
Помимо романов с 1943-го по 1949 год Жене публикует пьесы «Высокий надзор» (Haute surveillance, 1943, опубл. 1949) и «Служанки» (Les Bonnes, 1947). Несомненное влияние оказал на твор- чество Жене блистательный Жан Кокто, его друг и покровитель, встреча с которым в 1943 году сыграла решающую роль в его становлении как писателя. Жене пробовал себя и в других жанрах: писал стихи, киносценарии («Песнь любви», 1950; «Каторга», 1952), либретто для балета («Зеркало Адама») и оперы, философские эссе.
В 1950-е годы Жене работает над пьесами «Балкон» (Le Balcon, 1955, опубл-. 1956), «Негры» (Les Nègres, 1956, опубл. 1959), «Ширмы» (Les Paravents, 1957, опубл. 1961). Большой интерес представляют его комментарии к ним: «Как играть "Балкон"» (Comment jouer Le Balcon, 1962), «Как играть "Служанок"» (Comment jouer Les Bonnes, 1963), «Письмо Роже Блэну на полях "Ширм"» (Lettre à Roger Blin en marge des Paravents, 1966). Пьесы Жене имеют счастливую сценическую жизнь, их ставят лучшие режиссеры второй половины XX века (Луи Жуве, Жан-Луи Барро, Роже Блэн, Питер Брук, Петер Штайн, Патрис Шеро и др.).
Цель трагедии мыслится Жене как ритуальное очищение («изначальной задачей было избавление от отвращения к самому себе»). Парадоксальным образом преступление ведет к святости: «Святость — моя цель... Я хочу сделать так, чтобы все мои поступки вели меня к ней, хотя я и не знаю, что это такое». Стержнем произведений Жене является «некое необратимое действие, по которому нас и будут судить, или, если угодно, жестокое действие, которое судит само себя».
Желая вернуть театру ритуальную значимость, Жене обращается к истокам драмы. Во время погребения в античную эпоху участники этого ритуала (мистерии смерти) воспроизводили дромен (греч. слово drama имеет тот же корень) покойного, то есть его прижизненные деяния. Первая пьеса Жене «Высокий надзор» выводит на сцену дромен трех преступников, заключенных в камеру. По содержанию она перекликается с пьесой Сартра «За закрытой дверью». «Я» и «другой» оказываются связаны отношениями роковой необходимости, в которых не властны ни «я», ни «другой».
Действующие лица пьесы — семнадцатилетний Морис и двадцатитрехлетний Лефран соперничают между собой за внимание третьего заключенного, двадцатидвухлетнего Зеленоглазого, который приговорен к смерти за убийство. Каждый из заключенных совершил собственный «великий прыжок в пустоту», отделивший его от других людей, и даже в камере продолжает свое падение. Преступление каждого было необходимо, как бы они ни сопротивлялись ему: они были избраны, они «притягивали беду». Их головокружительный путь по ту сторону добра и зла может остановить только смерть. Присутствие смерти, сначала в рассказах Зеленоглазого (о совершенном им убийстве), а затем в реальной жизни (Лефран убивает Мориса) «слишком сладко», ее красота и таинственность завораживают. Смерть неотделима от преступления, она и есть «беда», которая «нужна целиком». («Зеленоглазый. — Вы ничего не знаете о беде, если полагаете, будто ее можно выбрать. Моя, например, выбрала меня сама. Я бы понадеялся на что угодно, только бы ее избежать. Я совсем не хотел того, что со мной приключилось. Все мне было просто дано».)
Поэтизация смерти в рассказах Зеленоглазого («Крови не было. Только сирень»), красота Мориса («дрянь драгоценного, белого металла») и Зеленоглазого («Меня звали "Пауло с цветком в зубах" Кто еще так же молод, как я? Кто остался так же красив после такой беды?»), подчеркнуто юный возраст участников драмы, которые могут «превратиться в розу или барвинок, маргаритку или львиный зев», парадоксально служат созданию приподнятой, почти праздничной атмосферы. Стремительно нарастает ощущение катастрофы, участники действа кружатся в хороводе смерти («Вы бы видели, как я плясал! О, ребята, я плясал — так уж плясал!»). В результате провокационного поведения Мориса Лефран, который «послезавтра» выходит на свободу, совершает «настоящее» преступление: убивает Мориса, входя тем самым в круг посвященных в мистерию смерти. На глазах зрителей «беда» выбрала свою очередную жертву. Иными словами, «высокий надзор» осуществляется не старшим надзирателем, появляющимся в последней сцене пьесы, а самой судьбой, обручившей со смертью, ослепительно прекрасной и притягательной, сначала Зеленоглазого («[Дверь камеры отворяется, но на пороге никого нет]. Это за мной? Нет? Она пришла»), а затем Лефрана («Я сделал все, что мог, из любви к беде»).
Подобным образом повествование в романах Жене в кульминационные моменты приобретает черты мифа, действие отождествляется с ритуалом. В одном из лучших его романов «Богоматерь Цветов» (1944) в момент чтения смертного приговора герой перестает быть преступником и становится жертвой для заклания, «очистительной жертвой», «козлом, быком, ребенком». С ним обращаются как с тем, на кого снизошла «Божья благодать». И когда через сорок дней, «весенней ночью», во дворе тюрьмы он был казнен (появляется образ жертвенного ножа), это событие стало «путем его души к Богу».
Присущая рассказчику ирония (повествование ведется от первого лица) не мешает преображению реальности в миф — преображению преступника, «взявшего на себя все грехи мира», в своего рода искупителя. Эта готовность к жертве подчеркивается именами персонажей Жене, говорящими об их особом избранничестве: Божественная, Первое причастие, Мимоза, Богоматерь Цветов, Принц-Монсеньор и т. п. (Нелишне напомнить, что преступивший Закон у Кафки имел совсем иную стилистику имени — Йозеф К.) Совершая преступление, человек переходит в потусторонний мир, законы посюстороннего мира теряют свою власть над ним. Этот момент перехода и изображает Жене как ритуал посвящения в мистерию смерти. Забрав чью-то душу, убийца отдает свою. В определенном смысле Жене обыгрывает ситуацию, к которой обращались как М. Метерлинк («Слепые»), так и А. Стриндберг («Фрёкен Жюли»).
Тема трагического одиночества человека перед лицом судьбы не подводит. Жене к тому, что интересовало экзистенциалистов, — к проблеме этического выбора, ответственности индивидуума за свой выбор. -Хотя герой Жене заявляет, что он сам приговаривает себя к казни и сам себя освобождает из-под стражи, читатель не забывает, что власть героя над реальностью и самим собой эфемерна. В определенном смысле философия Жене оказывается близка пониманию мира как игры, театра.
По мере падения интереса к ангажированной литературе к середине 1950-х годов все сильнее заявляет о себе кризис традиционных, восходящих еще к романтизму и натурализму форм письма. Надо сказать, что тезис о «смерти романа» не стал чем-то неожиданным. Уже в 1920-е годы символисты (П. Валери) и особенно сюрреалисты (А. Бретон, Л. Арагон) сделали немало, чтобы упразднить «обветшавшее» представление о главном прозаическом жанре. Был «отправлен на свалку» А. Франс, выдвинулся на авансцену М. Пруст. И позднее каждое новое поколение писателей бралось за революционную переделку романного мира. В 1938 году Сартр осудил манеру Ф. Мориака, а в 1958 году такой же разрушительной критике подверглись уже сами Сартр и Камю со стороны «нового романиста» А. Роб-Грийе.
В целом, однако, следует признать, что после Второй мировой войны во Франции не было такого расцвета романа, как в межвоенный период. Война развеяла многие иллюзии, связанные с возможностью противостояния индивида обществу, которое, как думается, составляет суть романного конфликта. Ведь «избрать жанр романа (жанр — сам по себе высказывание о мире) для писателя — значит признать, что существенной чертой действительности является разлад, несоответствие между нормами общества, государства и устремлениями отдельной личности, пытающейся проложить свой собственный путь в жизни...» (Г. К. Косиков).
Реакцией на эту ситуацию стал выход на авансцену французской литературы «нового романа» и «театра абсурда». Послевоенные авангардисты заявили о себе достаточно мощно. В течение шести лет, с 1953-го по 1959-й, были опубликованы романы «Резинки», «Соглядатай», «Ревность», «В лабиринте», а также теоретические статьи (в том числе манифест «Путь для будущего романа», Une voie pour le roman futur, 1956) Алена Роб-Грийе, романы «Мартеро» (Martereau, 1953), «Тропизмы» (Tropismes, 1938, 1958), «Планетарий» Натали Саррот, романы «Миланский проезд» (Passage de Milan, 1954), «Распределение времени», «Изменение», статья «Роман как поиск» (Le Roman comme recherche, 1955) Мишеля Бютора, роман «Ветер» Клода Симона.
Большинство этих произведений вышли в свет по инициативе издателя Ж. Линдона в издательстве «Минюи» (Minuit, «Полночь»), основанном в период Сопротивления для публикации подпольной литературы. Критики сразу заговорили о «романистах "Минюи"», о «школе взгляда» (Р. Барт), о «новом романе». «Новый роман» — удобное, хотя и расплывчатое, наименование, введенное для обозначения отказа от традиционных романных форм и смены их повествовательным дискурсом, который призван воплотить особую реальность. Однако каждый из новороманистов представлял ее себе оригинально. Некоторая общность теоретических установок Н. Саррот и А. Роб-Грийе не мешала этим писагелям быть глубоко различными по своему почерку. Это же можно сказать о М. Бюторе и К. Симоне.
Тем не менее представителей этого поколения (отнюдь не школы!) объединяло общее стремление к обновлению жанра. Они ориентировались на новаторство М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки, У Фолкнера, В. Набокова, Б. Виана. В автобиографии «Вращающееся зеркало» (Le Мігоіг qui revient, 1985) Роб-Грийе признавался, что его приводили в восхищение «Посторонний» Камю и «Тошнота» Сартра.
В сборнике эссе «Эра подозрений» (L"Eredusoupęon, 1956) Саррот утверждает, что модель романа XIX века исчерпала себя. Интрига, персонажи («типы» или «характеры»), их перемещение в фиксированном времени и пространстве, драматическая последовательность эпизодов перестали, по ее мнению, интересовать романистов XX века. В свою очередь Роб-Грийе заявляет о «смерти персонажа» и примате дискурса (в данном случае — прихотливости письма) над историей. Он требует, чтобы автор забыл о себе, исчез, отдав все поле изображаемому, перестал делать персонажей своей проекцией, продолжением своего социокультурного окружения. Дегуманизация романа, по Роб-Грийе, это гарантия свободы писателя, возможности «взглянуть на окружающий мир свободными глазами». Цель этого взгляда — развенчать «миф о глубине» бытия и заменить его скольжением по поверхности вещей: «Мир не значит ничего и не абсурден. Он крайне прост... Существуют вещи. Их поверхность гладка и чиста, девственна, она ни двузначна, ни прозрачна. Вещи есть просто вещи, а человек есть просто человек. Литература должна отказаться ощутить связь вещей через метафору и удовлетвориться спокойным описанием гладкой и ясной поверхности вещей, отрешившись от любой праздной интерпретации — социологической, фрейдистской, философской, взятой из эмоциональной сферы или из любой другой».
Освобождая вещи из плена стереотипного их восприятия, «десоциализируя» их, новороманисты и намеревались стать «новыми реалистами». «Реальность» в их понимании была связана с идеей не репрезентации, а письма, которое, обособляясь от автора, творит свое особое измерение. Отсюда отказ от представления о целостном персонаже. Его заменяют «вещи», в которых он отражается, — далекое от всякой статики пространство предметов, слов.
«Новый роман» также переосмыслил отношения между читателем и текстом. Пассивное доверие, основанное на идентификации читателя и персонажа, должно было уступить место идентификации читателя с автором произведения. Читатель, таким образом, втягивался в процесс творчества и становился соавтором. Он вынужден был занять активную позицию, следовать за автором в его эксперименте: «Вместо того, чтобы идти на поводу у очевидного, к которому его приучила из-за его лени и спешки повседневная жизнь, он должен, чтобы различать и узнавать персонажи, как их различает сам автор, изнутри, по неявным признакам, которые можно распознать, лишь отказавшись от привычки к комфорту, погрузиться в них так же глубоко, как автор, и обрести его видение» (Саррот). Роб-Грийе обосновывает эту мысль не менее настойчиво: «Отнюдь не пренебрегая своим читателем, автор провозглашает сегодня абсолютную необходимость активной, сознательной и творческой помощи читателя. От него требуется не принятие законченного образа мира, целостного, сосредоточенного на самом себе, а участие в процессе созидания вымысла... с целью научиться таким же образом созидать свою собственную жизнь».
«Развоплощение» персонажа усилиями новороманистов привело к тому, что взгляд наблюдателя заменяет действие. Мотивы поступков персонажей часто не названы, читатель может только догадываться о них. Здесь вступает в силу широко применяемый «новым романом» прием паралипса, который заключается в том, чтобы дать меньше информации, чем необходимо. Он часто используется в детективной литературе. Ж. Женетт предложил для него следующую формулу: «Опущение какого-либо поступка или важной мысли героя, о которых не могут не знать герой и рассказчик, но которые рассказчик предпочитает скрыть от читателя». По обмолвкам и обрывочным воспоминаниям читатель может, в принципе, восстановить некую «связную» картину событий.
Распространенный прием новороманистов — смещение временных и повествовательных планов (во французской структуралистской критике он назван приемом металепса). Ж. Женетт определяет его так: «В повествовании невозможно рационально отделить вымысел (или сон) от реальности, высказывание автора от высказывания персонажа, мир автора и читателя сливаются с миром персонажей» («Фигуры III», Figures III). Характерный пример использования металепса — рассказы X. Кортасара (в частности, новелла «Непрерывность парков»). По мере того как в сознании персонажа исчезает граница между реальностью и вымыслом, его мечты, воспоминания становятся «второй жизнью», а прошлое, настоящее и будущее получают новое прочтение. В читателе, таким образом, все время поддерживается сомнение в реальности изображаемого: оно в равной степени может быть фактом биографии героя, проектом будущего или же ложью, которую ее носитель разоблачит на следующей странице. Мы так и не узнаем, действительно ли Матиас из романа «Соглядатай» Роб-Грийе совершил убийство или лишь предавался мечтам о нем. Мы так и не узнаем, как и за что неизвестный убил свою возлюбленную в романе Маргерит Дюрас «Модерато кантабиле» (Moderato cantabile, 1958).
Приемы, подобные металепсу, суггестируют представление о бытии как о чем-то иррациональном, прихотливом, всецело относительном: «Все происшествия и факты преходящи, как легкий бриз, как порыв ветра, и исчезают, оставляя лишь мимолетный след, неверно понятый, ускользающий из памяти. Мы так и не смогли ничего разгадать. Мы делаем вывод о непроницаемости существ, эволюционирующих в колеблющемся мире, о некоммуникабельности собеседников; следствие этого — злоупотребление монологом» (Ж. Кейроль). Перед читателем фактически «десептивная» модель романа (фр. déception — обманутое ожидание): «Кажется, что повествование стремится к самой большой искренности. Но на самом деле рассказчик только расставляет читателю ловушки, он его все время обманывает, заставляет без конца искать, от кого исходит высказывание, и это не из доверия к нему, а чтобы, злоупотребив его доверием, запутать его... Рассказчик становится неуловимым, увлекая читателя вымыслом, в который прячется сам, становясь еще одним вымыслом. Ожидание полноты правды и, следовательно, ясного изложения обмануто» (П. Эмон). С подобными метаморфозами повествовательной логики тесно связаны метаморфозы художественного времени в романе. Оно «то сокращается (когда герой что-то забывает), то растягивается (когда он что-то выдумывает)» (Р. Барт).
Издательство «Галлимар» отказалось печатать первый роман Алена Роб-Грийе (Alain Robbe-Grillet, p. 1922). Изображение города в «Резинках» (Les Gommes, 1953) — улиц, канала, домов — торжество очевидности, тогда как персонажи существуют лишь в виде силуэтов и теней, приводимых в движение непонятными нам мотивами. Поражает совершенная механика повествования, создающая повторением одних и тех же жестов и поступков особый масштаб, не совпадающий ни с личным переживанием времени, ни с временем астрономическим. Этот хронотоп, собственно, и приводит детективную интригу «Резинок» в действие. В «Соглядатае» (le Voyeur, 1955), романе, восхищавшем В. Набокова, действие представляет собой череду жестов и поступков, обрамляющих убийство девушки коммивояжером. Если бы от нас не скрыли это событие и не заменили бы его временным пробелом, повествование бы распалось. Соответственно роман посвящен усилиям убийцы затушевать некую лакуну во времени, вернуть миру, порядок которого нарушен преступлением, «ровную и гладкую» поверхность. Убийце для этого нужны вещи, предметы. Восстанавливая их «невозмутимость», он как бы стирает свое присутствие и перекладывает на мир свою вину. Не являясь в силу противоестественности преступления естественной частью универсума, убийца хочет ею стать, свести себя к «поверхности», то есть набору жестов и поступков.
В «Ревности» (La Jalousie, 1957) Роб-Грийе обходится не только без сюжета, но и без сколько-нибудь узнаваемых персонажей, и развертывает перед читателем мозаику то ли воображаемых, то ли реальных действий, накладывающихся друг на друга. В результате возникает фантом любовного треугольника на фоне некоей колониальной страны. Вместо того чтобы заполнить информационные пробелы, Роб-Грийе занимается описанием мест, пространственного расположения вещей, передвижения солнца и тени в разное время дня, постоянно возвращаясь к одним и тем же структурным ядрам (предметам, жестам, словам). Результат необычен: читателю кажется, что он находится в театре теней, которые ему следует материализовать на основании предложенных подсказок. Однако чем больше мы видим мир глазами ревнивого мужа, тем сильнее начинаем подозревать, что все в нем — игра болезненного воображения.
Мир, описываемый Роб-Грийе, был бы совершенно пуст и лишен значений, если бы человек, который введен в его границы, не пытался вступить с ним в сложные отношения. Они связаны как с желанием обжить его, сделать человечным, так и раствориться в нем. Воля к исчезновению, к растворению, согласно роману «В лабиринте» (Dans le labyrinthe, 1959), привычно для Роб-Грийе балансирующему на грани реального и ирреального, не менее субъективна, чем воля к созиданию. Фоном «бытия, небытия» становится в романе призрачный город. По его заснеженным улицам, среди ничем не отличающихся друг от друга домов, бродит солдат, который должен передать родственникам одного из свогіх убитых товарищей коробку с письмами и не имеющими особой ценности предметами. Фонари, двери подъездов, коридоры, лестницы — все это выступает в роли зловещих зеркал... В дальнейших своих произведениях Роб-Грийе (например, киносценарий для ленты А. Рене «Прошлым летом в Мариенбаде», 1961) меняет эстетику «шозизма» (от фр. chose — вещь) на прямо ей противоположную — эстетику «безбрежной субъективности», в основу которой положены навязчивые состояния психики, эротические фантазии.
В отличие от Роб-Грийе, который в 1950-е годы принципиально ограничивает себя фиксацией всего «поверхностного», Натали Саррот (Nathalie Sarraute, наст, имя — Наталья Черняк, 1902— 1999) пытается через банальные детали повседневной жизни дать представление о незримой стороне человеческих отношений. Проникнуть за видимость вещей, показать силовые линии существования, рождающиеся как реакция на социальные и психические раздражители, — цель анализа Саррот. Прежде всего он основан на подтексте (в данном случае это противоречащие словам жесты, умолчания). В «Планетарии» (Le Planétarium, 1959), пожалуй, самой яркой книге Саррот, «подводный» мир обретает особую рельефность. В нем идентифицируемы молодой глупец, претендующий на артистизм, его маниакальная тетка, развалившаяся семья, а также типаж знаменитой писательницы. Как это косвенно следует из названия романа, автора интересует не интрига, а движение персонажей-«планет» внутри некой космической системы. Свойство космических тел сближаться по особой траектории, притягиваться друг к другу, а затем отталкиваться лишь подчеркивает их изолированность. Образ закрытости сознания для внешнего мира переходит в другой роман Саррот, «Золотые плоды» (Les Fruits d"or, 1963): мы существуем только для самих себя; казавшиеся нам абсолютно верными наши суждения о предметах, произведениях искусства всецело относительны; слова, в целом, не вызывают доверия, хотя писатель и сопоставим с акробатом на трапеции.
От Роб-Грийе отличается и другой новороманист, Мишель Бютор (Michel Butor, p. 1926). Он не уверен, что ромагі*ист должен стать «убийцей» движущегося времени. Время, по Бютору, важнейшая реальность творчества, но не столь сама собой разумеющаяся, как в классическом романе. Его необходимо завоевать, иначе оно окажется сметенным переживаемыми нами событиями: мы являем себя через время и время являет себя через нас. Бютор пытается выразить эту диалектическую связь в форме особой «хроники», через тщательный анализ мельчайших деталей.
Нарратор в романе «Распределение времени» (L"Emploi du temps, 1956) — писатель. Он пытается занести на бумагу события семимесячной давности, связанные с его пребыванием в английском городе Блестоне. Для него это неприятное и трудное занятие. С одной стороны, настоящее вытекает из предшествующих событий. С другой — придает им принципиально иной смысл. Что же такое реальность в свете подобного диалога? — По-видимому, это письмо, которое не имеет ни начала, ни конца, акт постоянно возобновляемого творчества. Обозначив проблематичность времени, роман Бютора неожиданно обрывается.
Эффектность романа «Изменение» (La Modification, премия Ренодо 1957) в том, что повествование в нем выполнено в форме вокатива (второе лицо множественного числа, используемое в формулах вежливости). Содержание же его достаточно традиционно. Речь идет о внутренней эволюции человека, отправляющегося в Рим, чтобы забрать оттуда свою возлюбленную; в конце концов он решает оставить все так, как есть, и продолжать жить с женой и детьми, курсируя в качестве торгового агента между Парижем и Римом. Садясь в поезд, он находится во власти порыва начать новую жизнь. Но за время путешествия размышления и воспоминания, в которых смешались прошлое и настоящее, заставили его «модифицировать» свой проект. Использование обращения на «вы» позволило Бютору пересмотреть традиционные отношения романиста со своим произведением. Автор устанавливает дистанцию между собой и своим повествованием, выступая как свидетель и даже арбитр происходящего, избежав в то же время соблазна ложного объективизма и повествовательного всеведения.
Действие романа «Мобиле» (Mobile, 1962) разворачивается на американском континенте. Его герой — пространство США как таковое, измеряемое то сменой часовых поясов (при перемещении с восточного побережья США на западное), то бесконечным повторением одного и того же спектакля человеческой жизни, которая становится олицетворением голого числа, надчеловеческой реальности.
Еще один крупный новороманист — Клод Симон (Claude Simon, p. 1913). Дебютный роман Симона — «Обманщик» (Le Tricheur, 1946), центральный персонаж которого в чем-то напоминает Мерсо Камю. После десятилетия различных исканий (романы «Гулливер», Gulliver, 1952; «Весна Священная», Le Sacre du printemps, 1954) Симон, прошедший к этому времени увлечение У. Фолкнером, достигает зрелости в романах «Ветер» (Le Vent, 1957) и «Трава» (L"Herbe, 1958). В название романа «Трава» вынесен образ Б. Пастернака: «Никто не делает истории, ее не видно, как не видно, как растет трава». У Симона он намекает на безличность истории, роковую силу, враждебную человеку, а также на сложность рассказать о чем-либо или реконструировать прошлое. Персонажи романа (умирающая старая женщина, ее племянница, изменяющая своему мужу) не имеют истории в том смысле, что их жизнь крайне заурядна. И тем не менее в подаче Симона эта обреченная на смерть и продуваемая насквозь ветром времени материя начинает «петь», получает артистическую «регенерацию».
В романе «Дороги Фландрии» (La Route des Flandres, 1960) сплетены между собой военная катастрофа (сам Симон воевал в кавалерийском Ттолку), заключение в лагере для военнопленных и супружеская измена. Повествователь (Жорж) оказался свидетелем странной гибели своего командира. Ему кажется, что де Рейхак подставил себя под пулю снайпера. Жорж пытается понять причину этого поступка, связанного либо с военным поражением, либо с изменой жены Рейхака. После войны он находит Коринну и, желая разгадать загадку прошлого, сближается с ней, пытаясь поставить себя на место де Рейхака. Однако обладание Коринной (объектом его эротических фантазий) не проливает дополнительный свет на происшедшее в 1940 году. Попытка понять природу времени и установить хотя бы некую тождественность личности самой себе дублируется в романе переключением повествования с первого лица на третье, воспроизведением одного и того же события из прошлого (гибель Рейхака) посредством внутреннего монолога и прямого рассказа о нем. В результате возникает образ плотной, сумрачной ткани времени, полной различных зияний. Паутина памяти стремится затянуть их, но ее нити, которые несет с собой каждый человек-«паук», пересекаются лишь условно.
Роман «Отель» (Le Palace, 1962) воссоздает эпизод Гражданской войны в Испании. Речь в нем идет об убийстве республиканца недругами из своих же, республиканских рядов. Особое место в повествовании отведено описанию охваченной революцией Каталонии (Барселона) — калейдоскопу уличных зрелищ, красок, запахов. Роман со всей очевидностью рисует разочарование Симона в марксизме и желании переделать мир на путях насилия. Его симпатии на стороне жертв истории.
Монументальный роман «Георгики» (Les Géorgiques, 1981) — одно из самых значительных произведений Симона, где автор вновь обращается к теме столкновения человека со временем. В романе сплетены между собой три нарратива: будущего генерала наполеоновской империи (скрывающегося за инициалами Л. С. М.), кавалериста, участника Второй мировой войны, а также англичанина, бойца интербригад (О.). Любопытно, что все эти персонажи оставили после себя литературный след. Жизнь генерала реконструируется по его письмам и дневникам (в семье Симона хранился подобный архив); кавалерист пишет роман о Фландрии, где фигурирует Жорж; текст О. представляет собой книгу Дж. Оруелла «Дань Каталонии», «переписанную» Симоном. Проблематизируя очень сложные отношения между познанием, письмом и временем, Симон разрушительной стихии войн противопоставляет архетип земли, смены времен года (в конце концов генерал возвращается в родовое имение, чтобы в качестве гаранта преемственности поколений, «предка», наблюдать там за всходами винограда). На это намекает название, взятое у Вергилия. Через весь роман проходит и другой вергилиевский мотив (четвертая книга «Георгик») — миф об Орфее и Эвридике. Симоновская Эвридика — жена Л. С. М., которую он потерял при рождении сына. И без того непростая структура повествования усложнена отсылками к опере Глюка «Орфей и Эвридика» (1762).
В то время как новороманисты выясняли свои отношения с экзистенциализмом, постепенно набирала силу полемика между традиционным университетским литературоведением (придерживавшимся преимущественно социологического подхода к литературе) и критикой, которая объявила себя «новой», а все ранее практиковавшиеся методы анализа — «позитивистскими». Под знаменами «новой критики» условно объединились столь разные фигуры, как этнолог Клод Леви-Стросс (р. 1908) и психоаналитик Жак Лакан (1901-1981), философы Мишель Фуко (1926-1984) и Луи Альтюссер (1918—1990), семиотики Ролан Барт (1915—1980) и Жерар Женетт (р. 1930), теоретики литературы и коммуникации Цветан Тодоров (р. 1939) и Юлия Кристева (р. 1941) и многие Другие гуманитарии, сосредоточившиеся на разработке культурологической проблематики и предложившие для этого особый понятийный инструментарий. Одним из главных органов этого движения, где причудливо сплелись между собой марксизм и формализм, психоанализ и структурная антропология, лингвистика и обновленная социология, научная методология и эссеизм, наследие Ф. де Соссюра, Московского и Пражского лингвистических кружков, М. Бахтина, Ж. -П. Сартра, стал журнал «Тель кель» (Tel quel, 1960— 1982). Его идеологические установки не раз менялись по мере того, как «новая критика» проходила эволюцию от структурализма и нарратологии к постструктурализму и деконструктивизму. Под ее влиянием традиционное понятие художественного произведения уступило место внежанровому понятию текста как формы словесного творчества.
В определенной степени это подтверждал опыт самих гуманитариев новой волны. Этнограф К. Леви-Стросс, философ по образованию и теоретик структурализма, успешно применивший в этнологии лингвистические модели, стал автором оригинального автобиографического сочинения «Грустные тропики» (Tristes Tropiques, 1955). Сходное наблюдение позволяет сделать и позднее творчество Ролана Барта (Roland Barthes). При исследовании новеллы О. де Бальзака «Сарразин» в книге «S/Z» (1970) он, описывая полифонию «чужих», звучащих сквозь ткань бальзаковского нарратива, голосов, превращается из аналитика в гистриона, актера. Эта тенденция еще более заметна в работах «Удовольствие от текста» (Le Plaisir du texte, 1973) и, особенно, в «Ролан Барт о Ролане Барте» (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975), «Фрагменты речи влюбленного» (Fragments d"un discours amoureux, 1977), книге о фотографии «Camera lucida» (Le Chambre claire, 1980).
Указанная метаморфоза французской прозы в значительной мере связана с именем писателя и философа Мориса Бланшо (Maurice Blanchot, 1907 — 2003), который расширил границы романа до «пространства литературы» (L"Espace littéraire, 1955). Творчество для Бланшо — оборотная сторона «ничто», поскольку всякое письмо и речь связаны с дематериализацией мира, молчанием, смертью. Эта идея звучит в самих названиях его работ «Литература и право на смерть» (La Littérature et le droit à la mort, 1970), «Катастрофическое письмо» (L" Écriture du désastre, 1980). Отношения писателя со своим произведением описываются Бланшо через миф об Орфее и Эвридике. Первые интерпретации этого мифа содержатся уже в его ранних романах («Темный Тома», Thomas l"Obscur, 1941; «Аминадав», Aminadab, 1942).
Свое понимание литературы как преодоления существующей данности Бланшо возводит к идеям С. Малларме («Кризис стиха»), Ф. Ницше и М. Хайдеггера (видение реальности как отсутствия), создавая своего рода «негативную диалектику»: «Если я говорю: эта женщина — нужно, чтобы я отнял у нее так или иначе ее реальное существо, чтобы она стала отсутствием и небытием. В слове мне дается бытие, но дается лишенным бытия. Слово — отсутствие, несуществование предмета, то, что остается от него после того, как он утратил свое бытие». Писатель не должен «что- то сказать», «создать» подобие мира. «Говорить», согласно Бланшо, значит «молчать», так как писателю «нечего сказать» и он может высказать лишь это «ничто». Образцовым писателем, через которого звучит «ничто», Бланшо считает Ф. Кафку. Реальность же, существующая вне вещей и независимо от писателя, живет по своим собственным законам и не может быть узнана («что-то говорит и говорит, словно говорящая пустота»). Как поэт пустоты, пугающего безмолвия, Бланшо в своих романах близок не только ф. Кафке (блуждание героя по лабиринту комнат в романе «Замок»), но и экзистенциалистам.
Эволюция художественного творчества Бланшо шла по пути слияния его романов с эссе: убывала сюжетность, а мир его книг делался все более зыбким, приобретая черты философско-художественного дискурса. Повесть «Ожидание забвение» (L"Attente l"Oubli, 1962) представляет собой фрагментарный диалог. В 1970 — 1980-е годы его письмо окончательно становится фрагментарным {«Шаг по ту сторону», Le Pas au-delà, 1973; «Катастрофическое письмо»). Изменяется и атмосфера произведений Бланшо: гнетущий образ всеразрушающей и одновременно творящей смерти уступает место тонкой интеллектуальной игре.
Литературно-философский опыт Барта и Бланшо показывает, насколько размытыми становятся границы жанров и специализаций. В 1981 году (1980 год — год смерти Сартра и Барта, знаковых фигур французской литературы второй половины века) журнал «Лир» («Читать», Lire) опубликовал список наиболее влиятельных, по мнению редакции, современных писателей Франции. На первом месте оказался этнолог К. Леви-Стросс, за ним следовали философы Р. Арон, М. Фуко, теоретик психоанализа Ж. Лакан. Только пятое место было отдано «собственно» писателю — С. де Бовуар. М. Турнье занял восьмое место, С. Бекетт — двенадцатое, Л. Арагон — пятнадцатое.
Однако не следует считать, что 1960-е — середина 1970-х годов во французской литературе прошли исключительно под знаком «нового романа» и тех политических акций (события мая 1968 года), с которыми он себя как явление неоавангарда прямо или косвенно ассоциировал, а также смешения различных модусов письма. Так, продолжала публиковаться Маргерит Юрсенар (Marguerite Yourcenar, наст, имя — Marguerite de Crayencour, Маргерит де Крейянкур, 1903— 1987), чей роман «Воспоминания Адриана» (Mémoires d"Hadrien, 1951), воссоздающий атмосферу Рима II века, стал современным образцом жанра философско- исторического романа. Большое влияние на творческое становление Юрсенар оказала, по ее словам, проза Д. Мережковского. Успех имели также роман «Философский камень» (L"Oeuvre au noir, 1968) и первые два тома ее автобиографической семейной саги «Лабиринты мира»: «Благочестивые воспоминания» (1974), «Северный архив» (1977). В пос- ледние годы жизни писательница, избранная в 1980 году во Французскую Академию, продолжала работу над третьим томом «Что это? Вечность» (Quoi? L" éternité), опубликованным посмертно (1988). Помимо Юрсенар, принадлежавшей к старшему поколению, к сравнительно традиционным по манере писателям относится, к примеру, Патрик Модьяно (Patrick Modiano, p. 1945), автор многочисленных романов (в частности «Улица темных лавок», Rue des boutiques obscures, Гонкуровская премия 1978). Однако в его произведениях уже имеются приметы того, что вскоре назовут постмодерном, который многие из революционно настроенных французских «шестидесятников» восприняли как предательство идеалов свободы духа, неоконсерватизм.
К третьему послевоенному (или «постмодернистскому») поколению французских писателей относятся Ж. -М. Г. Ле Клезио, М. Турнье, Патрик Гренвиль («Огненные деревья», Les Flamboyants, Гонкуровская премия 1976), Ив Навар («Ботанический сад», Le Jardin d"acclimatation, Гонкуровская премия 1980), Ян Кеффлек («Варварские свадьбы», Les Noces barbares, Гонкуровская премия 1985).
Жан-Мари Гюстав Ле Клезио (Jean-Marie Gustave Le Clézio, p. 1940), автор романов «Протокол» (Le Proces verbal, премия Ренодо 1963), «Пустыня» (Le Désert, 1980), «Искатели клада» (Le Chercheurd"or, 1985), не размышляет над формой романа: он стремится говорить, быстро, задыхаясь, сознавая, что люди глухи, а время быстротечно. Предмет его тревоги — то, что составляет первичную реальность человечества: быть живым среди живых, подчиняясь великому вселенскому закону рождения и смерти. Истории персонажей Ле Клезио с их проблемами, радостями по сути детерминированы стихийными силами бытия, независимо от социальных форм их существования.
С удивительным мастерством Ле Клезио манипулирует объективом воображаемой камеры, то уменьшая предметы, то увеличивая их до бесконечности. Природа безгранична и лишена центра. В космической перспективе человек — всего лишь букашка. С точки зрения букашки, он — всемогущий Бог, распоряжающийся жизнью и смертью. Независимо от того, растворяется ли человек в обществе или принимает себя-за центр мироздания, его страсти, приключения, смысл жизни все равно окажутся банальными, предопределенными. Подлинными, по Ле Клезио, являются лишь самые простые ощущения жизни: радость, боль, страх. Радость связана с пониманием и любовью, боль вызывает желание замкнуться в себе, а страх — бежать от него. Все остальные действия — препровождение времени, которое следовало бы употребить с большей пользой, учитывая случайность нашего рождения. Свое видение земной жизни Ле Клезио мог бы сравнить со взглядом жителя Сириуса, вдруг заинтересовавшегося далекими трепыханиями микроскопических существ.
Ле Клезио, иными словами, намерен совершить прорыв там, где «новый роман», по его мнению, не покончил с антропоцентрической картиной мира, экспериментально упразднив традиционный сюжет, характер, но сохранив при этом определенные права за средой обитания человека — его вещными, социальными, вербальными коррелятами. Как писатель времени постмодерна — этот термин укоренился благодаря философу Ж. -Ф. Лиотару (JeanFrançois Lyotard, p. 1924) и его книге «Ситуация постмодерна. Доrлад о знании» (La Condition postmoderne. Rapport śur le savoir, 1979), — поколения, пришедшего на смену новороманистам (в литературе) и структуралистам, а также постструктуралистам (в философии), Ле Клезио намерен полностью отказаться от всякого представления о ценности, о структурности мира. В этом он, как и другие постмодернисты, опирается на новейшую физику (И. Пригожин, Ю. Климонтович) и ее концепцию динамического хаоса, взрывного характера эволюции.
Вместе с тем, увидев в своих предшественниках рационалистов, позитивистов, неискоренимых общественных реформаторов, литературный постмодерн (как по-своему и символизм сто лет назад) решил — на сей раз уже на более последовательно неклассических, а также нерелигиозных основаниях — восстановить права искусства, игры, фантазии, которые не создают все впервые, а существуют в лучах уже готового литературного знания (сюжеты, стили, образы, цитаты), как условная аллегорическая фигура, возникающая на фоне «мировой библиотеки». В итоге критика заговорила о «новой классике» — реставрации драматического повествования, цельных персонажах. Однако воскрешение героя не означало апологии ценностного начала в литературе. В центре искусства постмодерна — искусство пародии (здесь и просматривается близость к классицизму, который эксплуатировал мифологические сюжеты ради своих собственных целей), специфических смеха и иронии, несколько ущербная, эротически приправленная барочная изысканность, смешивающая реальное и фантастическое, высокое и низкое, историю и ее игровую реконструкцию, мужское и женское начало, детализацию и абстракцию. Элементы пикарескного и готического романа, детектива, декадентской «страшной новеллы», латиноамериканского «магического реализма», — эти и другие обломки (стихийно перемещающиеся по космосу слов) реинтегрируются на достаточно крепкой сюжетной основе. Возникающая эмблема, ключ к которой утрачен или случаен, претендует на правдоподобие, которое вместе с тем абсолютно неправдоподобно, указывает на непродуктивность «монологического» взгляда на что-либо (от половой принадлежности до трактовки глобальных исторических фигур и событий). Олицетворением подобной тенденции во французском литературном постмодернизме стало творчество М. Турнье.
Мишель Турнье (Michel Tournier, p. 1924) по образованию философ. Он поздно обратился к литературе, но сразу же приобрел известность своим первым романом «Пятница, или Круги Тихого океана» (Vendredi ou les Limbes du Pacifique, 1967). Член Гонкуровской Академии, он является автором произведений, которые обыгрывают готовый материал — приключения Робинзона Крузо в «Пятнице», историю античных героев братьев-близнецов Диоскуров в романе «Метеоры» (Les Météores, 1975), евангельский сюжет поклонения волхвов в романе «Гаспар, Мельхиор и Бальтазар» (Gaspard, Melchior et Balthazar, 1980). В 1985 году вышел его роман «Золотая капля» (La Goutte d"or), в 1989-м — «Полночная любовь» (Le Médianoche amoureux). Как писатель эпохи постмодерна, характеризующейся художественной эклектичностью, Турнье придерживается так называемой «мягкой» этики, которая позволяет ему преодолеть свойственную, в частности экзистенциализму, «пугающую тягу к бремени ценностей» (Ж. Делёз). Знакомые читателю образы способны стать у него незнакомыми, что соответствует тотальному ироническому настрою «пострелигиозной» культуры. Это отличает его и от структуралистов, выявлявших в мифе универсальную структуру мира.
Ткань повествования Турнье в меньшей степени эклектична, чем, например, у итальянца Умберто Эко (Umberto Есо, р. 1932), также использовавшего сюжет о Робинзоне (роман «Остров накануне», L"isola del giorno prima, 1994) в качестве архетипа бегства от цивилизации на природу. Но это не отменяет общей для этих писателей стилистики «интертекстуальности» (термин Ю. Кристевой) — вторичного письма, имеющего прототип в виде первичного письма, но переписавшего его с противоположным знаком.
В центре одного из самых известных произведений Турнье, романа «Лесной царь» (Le Roi des aulnes, Гонкуровская премия 1970), судьба Абеля Тиффожа — некоего современного «невинного», пикарескного героя, «симплиция», чистое око которого (скрытое за очками с толстыми стеклами) прозревает в окружающем мире то, что не способны увидеть другие. Часть романа представляет собой «Мрачные записки» Абеля, написанные от первого лица, часть — безличное повествование, куда включены выделенные курсивом фрагменты тех же записок. Поначалу обычный школьник, Тиффож открывает в себе магические способности: одного его желания достаточно, чтобы сгорел ненавистный ему коллеж. Позднее, когда ему грозит суд и тюрьма, начинается война и его спасает призыв в армию. Постепенно Тиффож начинает сознавать исключительность своей судьбы. Депортированный в Восточную Пруссию, он волей судьбы участвует в наборе мальчиков для школы юнгштурмовцев, которая расположена в старинном замке Кальтенборн, принадлежавшем когда-то рыцарскому ордену меченосцев. В прошлом хозяин гаража в Париже, он становится теперь «лесным царем» (или «ольховым царем», как в известной немецкой сказке), похищающим детей и наводящим ужас на всю округу.
Германия представляется Абелю землей обетованной, магической «страной чистых сущностей», готовой открыть ему свои тайны (сам Турнье, студентом приехав в Германию на три недели, остался там н а четыре года). Роман завершается сценой мученической смерти подростков, вступивших с советскими войсками в неравный бой. Сам же Абель погибает в болотах Мазурии с ребенком на плечах (тот спасен им из концлагеря), являясь олицетворением либо невинности, которая даже в условиях войны не знает врагов, к которой не пристает никакая грязь, либо поиска правды простых чувств и ощущений (ее фатально не желает знать старческая цивилизация XX века), возможностей инициации в высшее знание, либо контринициации — бессилия личности перед властными мифами.
Размышляя на эти темы, читатель не должен забывать, что их серьезность в рамках постмодернистского мультиверсума едва ли стоит переоценивать. Тиффож — не из каинова племени, но он и не подлинный Авель, не св. Христофор (взявшийся перенести ребенка через ручей и обнаруживший на своих плечах самого Христа). Ближе он к своим возможным литературным прототипам — вольтеровскому Кандиду, грассовскому Оскару Мацерату («Жестяной барабан») и даже набоковскому Гумберту, личности насколько неординарной (у Тиффожа необычайно тонкий слух), настолько же и шизофренической. Словом, «неоклассическая» реальность в романе она же и абсолютное безумие, парадоксальный мир, где, как в повести Вольтера, «все к лучшему».
Подтверждая условность границы между прекрасным и безобразным, добром и злом, сам Турнье в книге «Ключи и замочные скважины» (Des Clés et des serrures, 1978) замечает: «Все прекрасно, даже уродство; все священно, даже грязь». Если теоретики постмодернизма рассуждают о «недифференцированности, гетерогенности знаков и кодов» (Н. Б. Маньковская), то Турнье склонен говорить о «коварной, злонесущей инверсии» (определяющей судьбу Тиффожа). Но какими бы «противоположными самим себе» ни были исповедь безумца в свою защиту и сам роман «Лесной царь», очевидно, что помимо безысходности, возведенной в нем в ранг сказки и высокого искусства, у Турнье дает о себе знать тоска по идеалу, что сообщает его творчеству гуманистическое звучание.
Полем литературного эксперимента во Франции в самом конце XX века стал, пожалуй, не роман, а некий текст-гибрид. Пример тому — публикации выдвинувшегося на авансцену сегодняшней литературной жизни Валера Новарина (Ѵаlèге Novarina, p. 1947). Его тексты, начиная с 1970-х годов, синтезировали черты эссе, театрального манифеста, дневников. В итоге появился на свет «театр слов», или «театр для ушей». Такова театральная пьеса Новарина «Сад признания» (Le Jardin de reconnaissance, 1997), воплотившая собой желание автора «создать что-то с изнанки» — вне времени, вне пространства, вне действия (принцип трех единств «от противного»). Тайну театра Новарина видит в акте рождения слова: «В театре надо попытаться по-новому услышать человеческий язык, как его слышат камыши, насекомые, птицы, неговорящие младенцы и погруженные в спячку животные. Я прихожу сюда, чтобы вновь услышать акт рождения».
Эти и другие заявления писателя говорят о том, что он, как и большинство других французских авторов конца XX века, претендуя на новые открытия, берется за «хорошо забытое старое», добавляя к поэтике театра М. Метерлинка философию М. Бланшо («слышать язык без слов», «эхо молчания») и Ж. Делёза.
Литература
Великовский С. Грани «несчастного сознания»: Театр, проза, философская эссеистика, эстетика А. Камю. — М., 1973.
Зонина Л. Тропы времени: Заметки об исканиях французских романистов (6 0 - 7 0 - е гг.). - М., 1984.
Маньковская Н. Б. Художник и общество. Критический анализ концепций в современной французской эстетике. — М. 1985.
Андреев Л. Г. Французская литература и «конец века» / / Вопросы литературы. — М., 1986. — № 6.
Кирнозе 3. Предисловие / / Турнье М. Каспар, Мельхиор и Бальтазар: Пер. с фр. - М., 1993.
Ариас М. Лазарь среди нас. — М. 1994.
Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы: Пер. с фр. — М., 1994.
Маньковская Н. Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). — М., 1995.
Миссима Ю. О Жане Жене / / Жене Ж. Кэрель: Пер. с фр. — СПб., 1995.
Французская литература. 1945—1990. — М., 1995.
Сартр Ж. -П. Ситуации: Пер. с фр. — М., 1997.
Зенкин С. Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и судьба структурализма / / Женетт Ж. Фигуры: Т. 1 — 2: Пер. с фр. — М., 1998. Т. 1.
Косиков Г. К. От структурализма к постструктурализму. — М., 1998.
Филоненко А. Метафизическая траектория судьбы Альбера Камю / / Камю А. Изнанка и лицо: Пер. с фр. — М. 1998.
Гальцова Е. Недоразумения (Первая канонизация Сартра в СССР) / / Литературный пантеон. — М., 1999.
Волков А. «Дороги свободы» Сартра / / Сартр Ж. -П. Дороги свободы: Пер. с фр. - М., 1999.
Кондратович В. Предисловие / / Селин Л. -Ф. Из замка в замок: Пер. с фр. - М., 1999.
Косиков Г. К. «Структура» и/или «текст» (стратегия современной семиотики) / / От структурализма к постструктурализму: Французская семиотика: Пер. с фр. — М., 2000.
Лапицкий В. Подобное подобным / / Бланшо М. Ожидание забвение: Пер. с фр. - СПб., 2000.
Исаев С. А. Нежный / / Жене Ж. Строгий надзор: Пер. с фр. — М., 2000.
Дмитриева Е. Человек-Валер, или Voie negative / / Новарина В. Сад признания: Пер. с фр. — М., 2001.
Долина Л. Театр как достижение абсолютной свободы / / Театр Жана Жене: Пер. с фр. — СПб., 2001.
Балашова Т. В. Бунтующий язык: речь персонажей и рассказчика в романах Селина / / Вопросы литературы. — 2002. — № 4.
Barthes R. Essais critiques. — P., 1964.
Jeanson F. Le Problème moral et la pensée de Sartre. — P., 1966.
Malraux C. Le Bruit de nos pas. — P., 1966.
Charbonnier G. Entretiens avec Michel Butor. — P., 1967.
Collin F. Maurice Blanchot et la question de L" éсгіШге. — P., 1971.
Morrissette B. Les Romans de Robbe-Grillet. — P., 1971.
Pollmann E. Sartre und Camus? Literatur der Existenz. — Stuttgart, 1971.
Tisson-Braun M. Nathalie Sarraute ou La Recherche de l"authenticite. — P., 1971.
Nouveau roman: hier, aujourd"hui: Т. 1 — 2. — P., 1972.
Brémond C. Logique du recit. — P., 1973.
Laporte R., Noel В. Deux lecture de Maurice Blanchot. — Montpellier, 1973.
Ricardou J. Le Nouveau roman. — P., 1973.
Albères R. -M. Littérature, horizon 2000. — P., 1974.
Picon G. Malraux. — P., 1974.
Bonnefoy C., Cartano Т., Oster D. Dictionnaire de littérature française contemporaine. — P., 1977.
Sykes S. Les Romans de Claude Simon. — P., 1979.
Waelti-Walters J. Icare ou l" évasion impossible: étude psycho-mythique de l"oeuvre de J. -M. -G. Le Clézio. - P., 1981.
Santschi M. Voyage avec Michel Butor. — Lausanne, 1982.
Culler J. Barthes. — L., 1983.
Cohen-Solal A. Sartre. — P., 1985.
Jacquemin G. Marguerite Yourcenar. Qui suis-je? — Lyon, 1985.
Gibault F. Céline. 1944 - 1961. - P., 1985.
Valette В. Esthétique du roman moderne. — P., 1985.
Roger Ph. Roland Barthes, roman. — P., 1986.
Raffy S. Sarraute romanciere. — N. Y., 1988.
Raimond M. Le Roman. - P., 1988.
Lecherbonnier В., Rincé D., Brunel P., Moatti Ch. Littérature. Textes et documents. XX-eme siècle. - P., 1989.
Savigneau J. Marguerite Yourcenar. L"invention d"une vie. — P., 1990.
Nadeau M. Le Roman français depuis la guerre. — Nantes, 1992.
Vercier B., Lecarme J. La Littérature en France depuis 1968. — P., 1992.
Alméras Ph. Céline. Entre haine et passion. — P., 1994.
Bersani J., Autrand M. f Lecarme J., Vercier B. La Littérature en France de 1945 ä 1 9 6 8. - P. , 1995.
The Cambridge Companion to the French Novel: From 1800 to the Present / Ed. by T. Unwin. — Cambridge, 1997.
Saigas J. P. f Nadaund A., Schmidt J. Roman français contemporian. — P., 1997.
Viart D. Etats du roman contemporain. — P., 1998.
Gutting Gary. French Philosophy in the Twentieth Century. — Cambridge, 2001.
Braudeau M., Poguidis L., Saigas J. P., Viart D. Le Roman français contemporain. — P., 2002.
Литература Франции XX века находилась под непосредственным влиянием событий, сформировавших историю. Она сохранила титул законодательницы моды во всемирной изящной словесности, а авторитет ее оставался непререкаемым в мировом сообществе. Например, лауреатами Нобелевской премии стали семь представителей страны. Среди них Андре Жид, Франсуа Мориак, Альбер Камю, Клод Симон.
В самом начале столетия во Франции шли эксперименты в таких направлениях литературы, как символизм и натурализм. В первой половине века вскрылись социальные и идеологические противоречия.
Андре Жид, называвший себя «человеком диалога», не выдавал читателям готовых нравственных рецептов. Он задавал вопросы и искал ответы о смысле людского существования, о неизбежности судьбоносных событий. Его разносторонний талант проявился в немного гротескных произведениях «Имморалист», «Изабель» и «Подземелья Ватикана».
Поэт Гийом Аполлинер привнес в свое творчество элементы визуализации. Его «сюрреалистическая драма» «Сосцы Тиресия» преподносила проблемы современности в комедийном духе.
Французская литературная эволюция шла одновременно с модернизацией художественного искусства. Для произведений Франции XX века характерны своеобразная оторванность от реальности, поиск идеала.
Мастер изысканной прозы Андре Моруа в своих «Письмах незнакомке» говорил о любви и семейных отношениях, поднимал проблемы современной литературы и живописи. В знаменитых «Превратностях любви» он исследует многогранную сферу человеческих эмоций и страстей, трудности семейной жизни, проводит параллели с позициями в обществе.
Романисту Луи-Фердинанду Селину было свойственно применение сленга в своем творчестве. Но его антисемитские «Школа трупов» и «Безделицы для погрома» подарили автору имидж расиста и человеконенавистника.
А. Камю утверждает, что единственным методом борьбы с абсурдом может стать признание его существования. В «Мифе о Сизифе» он описывает удовлетворение человека, четко осознающего тщетность своих усилий.
30-е годы подарили миру шедевры писателей-экзистенциалистов Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар. Самый известный и, по мнению знатоков, наиболее удачный роман Сартра «Тошнота» поднимает темы человеческой судьбы, хаоса, отчаяния. Автор выделяет значимость свободы и возможности, которые она дарит в преодолении трудностей. Книга написана в виде дневника. Тот, кто ведет его, хочет докопаться до сути перемены, произошедшей с ним, но на него периодически нападает Тошнота, являющаяся неким символом чуткости к безобразному.
В произведениях «предшественницы феминизма» Симоны де Бовуар продвигаются экзистенциалистские идеи. Роман «Мандарины», отмеченный престижной французской литературной Гонкуровской премией, описывает идейное и политическое развитие послевоенной Франции.
Ключевые исторические события - освобождение от фашистской оккупации, правление президента Шарля де Голля, колониальные войны, студенческая революция — определили направление развития и послужили фоном в творениях французских авторов.
В 60-е годы внесли свою лепту литераторы, которые родились в заграничных департаментах либо колониях страны. Среди них: Тахар Бенжеллун, Амин Маалуф и Ассия Джебар. Темы романов последней — Алжирская война и трудности жизни женщины-мусульманки. Её «Жажда» и «Огромная тюрьма» демонстрируют, как исламские фанатики уничтожали проявления женской эмансипации.
Новейшая французская литература — это Антуан де Сент-Экзюпери, Жорж Сименон и Франсуаза Саган. Их шедевры сохранили и продолжили лучшие традиции Франции.
Самая известная повесть Антуана де Сент-Экзюпери — «Маленький принц» — это сказка-притча, рассказывающая о любви, дружбе, об обязательствах и человеческих пороках. Образ импульсивной и трогательной розы списан с обожаемой жены писателя. Сопровождающие рисунки сделаны автором и являются органичным дополнением литературного шедевра.
Жорж Сименон – французский представитель детективного жанра. Он прославился благодаря циклу повествований о расследованиях комиссара Мегрэ. Образ знаменитого блюстителя закона так очаровал читателей, что ему был воздвигнут бронзовый памятник, а многие сюжеты вышли на экране. Кроме того, писатель издавал множество «коммерческих» романов, например, «Записки машинистки».
Новеллы Ф. Саган характеризуются небольшим числом персонажей и коротенькими описаниями. В них выдержана интрига и четко обозначена схема любовного треугольника. Роман «Здравствуй, грусть» — это искренняя история, проникнутая страстностью и невинностью – той опасной смесью, которая и сегодня вызывает всплеск эмоций. Один из самых глубоких психологических романов «Немного солнца в холодной воде» повествует о том, как любовь может и исцелить, и погубить. Саган часто обвиняли в склонности к беллетристике. Как бы в опровержение она создала театральные пьесы «Скрипачи иногда причиняют вред» и «Лошадь исчезла», выпустила биографию Сары Бернар и несколько автобиографий.
Французская литература сохраняет свое высокое предназначение от Средневековья до совершенно изменившейся обстановки наших дней. Для русских читателей произведения Франции наиболее популярны и любимы.
Ежегодно 20 марта отмечают Международный день франкофонии. Этот день посвящен французскому языку, на котором говорят больше 200 миллионов человек по всему миру.
Мы воспользовались этим поводом и предлагаем вспомнить лучших французских писателей современности, представляющих Францию на международной книжной арене.
Фредерик Бегбедер . Прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Его литературные произведения, с описаниями современной жизни, метаний человека в мире денег и любовных переживаний очень быстро завоевали поклонников по всему миру. Самые нашумевшие книги «Любовь живет три года» и «99 франков» даже были экранизированы. Заслуженную славу писателю также принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Рассказики под экстази», «Романтический эгоист». Со временем Бегбедер основал собственную литературную премию «Премия Флоры».
Мишель Уэльбек . Один из наиболее читаемых французских писателей начала XXI века. Его книги переведены на добрых три десятка языков, он необычайно популярен в молодежной среде. Пожалуй, это связано с тем, что писателю удалось затронуть болевые точки современной жизни. Его роман «Элементарные частицы» (1998) получил «Гран-при», «Карта и территория» (2010) - Гонкуровскую премию. За ними последовали «Платформа», «Лансароте», «Возможность острова» и др., и каждая из этих книг становилась бестселлером.
Новый роман писателя «Покорность» повествует о крахе в недалеком будущем современной политической системы Франции. Сам автор определил жанр своего романа как «политическую фантастику». Действие разворачивается в 2022 году. К власти демократическим путем приходит президент-мусульманин, и страна начинает на глазах меняться…
Бернар Вербер . Культовый писатель-фантаст и философ. Его имя на обложке книги означает только одно — шедевр! Суммарный мировой тираж его книг — более 10 миллионов! Писатель больше известен благодаря трилогиям «Муравьи», «Танатонавты», «Мы, боги» и «Третье Человечество». Его книги переведены на множество языков, а семь романов стали бестселлерами в России, Европе, Америке и Корее. На счету автора - масса литературных премий, в т.ч. премия Жюля Верна.
Одна из самых нашумевших книг писателя - «Империя ангелов» , где переплетаются фантастика, мифология, мистика и реальная жизнь самых обыкновенных людей. Главный персонаж романа попадает в рай, проходит «страшный суд» и становится ангелом на Земле. По небесным правилам ему даются три человеческих клиента, адвокатом которых впоследствии он должен стать на страшном суде…
Гийом Мюссо . Относительно молодой писатель, очень популярный среди французских читательниц. Каждое его новое произведение становится бестселлером, по его произведениям снимают фильмы. Глубокий психологизм, пронзительная эмоциональность и яркий образный язык книг завораживают читателей во всем мире. Действие его приключенческо-психологических романов разворачивается по всему миру – во Франции, США и других странах. Вслед за героями читатели отправляются навстречу полными опасностей приключениям, расследуют загадки, погружаются в пучину страстей героев, что, безусловно, дает повод заглянуть и в свой внутренний мир.
В основе нового романа писателя «Потому что я тебя люблю» – трагедия одной семьи. Марк и Николь были счастливы, пока их маленькая дочь - единственный, долгожданный и обожаемый ребенок - не пропала…
Марк Леви . Один из самых известных писателей-романистов, чьи произведения переведены на десятки языков и печатаются огромными тиражами. Писатель является лауреатом национальной премии Гойи. За право экранизации его первого романа «Между небом и землей» Стивен Спилберг заплатил два миллиона долларов.
Литературные критики отмечают многогранность творчества автора. В его книгах - «Семь дней творения», «Встретиться вновь», «Каждый хочет любить», «Уйти, чтобы вернуться», «Сильнее страха» и др. - нередко встречается тема бескорыстной любви и искренней дружбы, тайны старых особняков и интриги, реинкарнация и мистика, неожиданные повороты сюжетных линий.
Новая книга писателя «Она и он» является одним из лучших романов по итогам 2015 г. Эта романтическая история о неодолимой и непредсказуемой любви.
Анна Гавальда
. Известная писательница, покорившая мир своими романами и
их изысканным, поэтическим стилем. Ее называют «звездой французской словесности»
и «новой Франсуазой Саган». Ее книги переведены на десятки языков, отмечены
целым созвездием премий, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. Каждое ее
произведение – рассказ о любви и о том, как она украшает каждого человека.
В 2002 г. вышел первый роман писательницы
– «Я ее любил, я его любила». Но это все было лишь прелюдией к настоящему
успеху, который принесла ей книга
«Просто вместе»
, затмившая во Франции даже
роман «Код да Винчи» Брауна.
Это потрясающе мудрая и добрая книга о любви и
одиночестве, о жизни и, конечно же, счастье.
Французская литература XX века - литература написанная на французском языке в XX веке. Многие события во французской литературе в этот период шли параллельно изменениям в изобразительном искусстве. Французской литературе этого века свойственна развлекательность, оторванность от жизни. Поиск идеала, образец для развития французские литераторы находят в русской литературе .
Обзор
Французская литература XX века находилась под большим влиянием исторических событий века, которому были свойственны глубокие политические, философские, нравственные и художественные кризисы.
Рассматриваемый период охватывает по времени последние десятилетия Третьей республики (1871-1940) (в том числе годы Первой Мировой войны), период Второй Мировой Войны (немецкая оккупация, временное французское правительство (1944-1946) в Четвёртой Республике (1946-1958), годы Пятой республики (с 1959 г.). Важными историческими событиями для французской литературы являются: дело Дрейфуса (дело о шпионаже в пользу Германской империи офицера французского генерального штаба, еврея, капитана Альфреда Дрейфуса); французский колониализм и империализм в Африке, на Дальнем Востоке (французский Индокитай) и в районах Тихого океана; Война за независимость Алжира (1954-1962); рост французской компартии ; подъем фашизма в Европе; события мая 1968 года, влияние литературы русской эмиграции на французскую литературу.
Французская литература XX века развивалась не изолированно, а под влиянием литератур, жанров и писателей всего мира, в том числе Ивана Бунина, Федора Достоевского , Франца Кафки , Джон Дос Пассоса , Эрнеста Хемингуэя , Уильяма Фолкнера , Джеймса Джойса и многих других. В свою очередь, французская литература оказала влияние на мировую литературу.
Во Франции в XX веке жили и работали писатели и поэты Иван Бунин, Мережковский, Дмитрий Сергеевич, Гиппиус, Зинаида Николаевна, К. Д. Бальмонт, Оскар Уайльд , Гертруда Стайн , Эрнест Хемингуэй , Уильям С. Берроуз , Генри Миллер , Анаис Нин , Джеймс Джойс , Сэмюэль Беккет , Хулио Кортасар , Набоков , Эдит Уортон и Эжен Ионеско . Некоторые из наиболее важных работ на французском языке были написаны зарубежными авторами (Эжен Ионеско, Сэмюэл Беккет).
Для американцев в 1920-х и 1930-х годах (в том числе для так называемого «потерянного поколения ») увлечение Францией было также связано со свободой от запретов , для части русских писателей пребывание во Франции в начале века было связано с непринятием Великой Октябрьской социалистической революции в России (Бунин, Мережковские). Для американских негров в XX веке (например, Джеймса Болдуина) Франция предоставляла большую свободу. Франция в XX веке была более либеральной страной в плане цензуры, и многие иностранные авторы печатали во Франции свои произведения, которые могли бы быть запрещены например в Америке: Джойс Улисс (издательство Сильвия Бич . Париж , 1922), роман В. Набокова Лолита и Уильяма С. Берроуза «Голый завтрак» (обе опубликованы в Олимпия Пресс), Генри Миллера Тропик Рака (издательство Обелиск Пресс).
Радикальные эксперименты не были по достоинству оценены всеми литературными и художественными кругами начала XX века. Буржуазные вкусы того времени были довольно консервативны. Очень популярной в начале XX века была поэтическая драма Эдмона Ростана , особенно его Сирано де Бержерак , написанная в 1897 году.
Фантастический жанр в начале XX включал в себя и детективный жанр. В этой области работали писатели Гастона Леру и Морис Леблан .
1914 - 1945 годы
Дадаизм и сюрреализм
Первая мировая война породила еще более радикальные тенденции в литературе. В Дадаизском движении, которой было основано в Швейцарии в 1916 году и переехало в Париж в 1920 году, участвовали писатели Поль Элюар , Андре Бретон , Луи Арагон и Робер Деснос . Находился под его сильным влиянием Зигмунд Фрейд с его понятием бессознательного . В литературе и в изобразительном искусстве сюрреалисты пытались выявить механизмы работы подсознания. Повышенный интерес к анти-буржуазной философии привел многих писателей в ряды Коммунистической партии Франции. С сюрреализмом были связаны писатели Жан Кокто , Рене Кревель , Жак Превер , Жюль Сюпервьель , Бенжамен Пере , Филипп Супо , Пьер Реверди , Антонен Арто (который революционизировал театр), Анри Мишо и Рене Шар . Сюрреалистическе движение оставалось надолго главным направлением в мире искусства до Второй Мировой Войны. Техника сюрреализма хорошо подходила для поэзии, театральным постановкам. Сюрреализм оказал большое влияние на поэтов Сен-Жон Перс и Эдмон Джейбс . Часть писателей, таких как Жорж Батай (тайное общество «Ацефал»), Роже Кайуа и Мишелем Лейрисом создали свои собственные литературные движения и группы, часть из которых занималась исследованиями иррациональных фактов социальной жизни.
Роман
В первой половине века жанр романа во Франции также претерпел изменения. Романист Луи-Фердинанд Селин использовал в романах жаргон, выступая против лицемерия своего поколения. Однако антисемитские публикации селина - памфлеты «Безделицы для погрома» (Bagatelles pour un massacre ) (1937), «Школа трупов» (L’Ecole des cadavres ) (1938) и «Попали в переделку» (Les Beaux Draps ) (1941) на долгие годы закрепили за Селином репутацию антисемита , расиста и человеконенавистника . Романист Жорж Бернанос использовал разнообразные методы для психологического исследования героев романов. Психологический анализ был важен для Франсуа Мориака и Жюль Ромена . Андре Жид экспериментировал с жанром в его романе «Фальшивомонетчики» , где он описал писателя, пытавшегося написать роман.
Театр
Театральная жизнь 1920-х и 1930-х годов во Франции была представлена ассоциацией театров (так называемой «Картель»), режиссёрами и продюсерами Луи Жуве , Шарль Дюллен , Гастон Бати , Жорж Питоев . Они ставили на сценах пьесы французских писателей Жан Жироду , Жюль Ромена , Жан Ануйя и Жан-Поль Сартра , произведения Шекспировского театра, произведения Луиджи Пиранделло , Чехова и Бернарда Шоу .
Экзистенциализм
В конце 1930-х годов на французский были переведены произведения писателей Э. Хемингуэя, У. Фолкнера и Дос Пассоса. Стиль прозы их произведений оказал огромное влияние на творчество писателей, таких как Жан-Поль Сартр , Андре Мальро и Альбера Камю . Писателей Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Мальро и Симону де Бовуар (которая также известна как одна из предшественниц феминизма) часто называют "писателами-экзистенциалистами".
Во французских колониях
В 1930-х и 1940-х годах происходило развитие литературы во французских колониях. Французский (мартиникский) писатель Эме Сезер (Aimé Césaire) вместе с Леопольд Седар Сенгором и Леон Дамасом создали литературное обозрение L"Étudiant Noir , которое было предтечей движения Негритюд (Négritude) , теоретическую базу которого составляет концепция самобытности, самоценности и самодостаточности негроидной расы.
Литература после Второй Мировой Войны
1950-1960-е годы были очень неспокойными во Франции. Несмотря на динамичное развитие экономики, страну раздирало ее колониальное наследие (Вьетнам и Индокитай , Алжир). Коллективное чувство вины от коллаборационистского режима Виши , стремление к национальному престижу (голлизм) и социально-консервативные тенденции преобладали в умах французской интеллигенции этого времени.
Вдохновленный театральными экспериментами первой половины века и ужасами войны, так называемый авангардный Парижский театр "Новый театр" или "театр абсурда " объединялся вокруг писателей Эжен Ионеско , Сэмюэл Беккет , Жан Жене , Артюр Адамов , Фернандо Аррабаль . Театр отказался от традиционных персонажей, сюжетов и постановок. Другие новшества в театральной жизни - децентрализация, развитие областного театра, "народный театр" (предназначен для рабочего класса), театр Бертольда Брехта (в значительной степени неизвестен во Франции до 1954 года).
Поэзия в послевоенный период испытывала связь между поэзией и изобразительным искусством. Известные поэты этого времени
Французская поэзия прошлого века - это в первую очередь поэзия комментария, аллюзии, скрытых внутренних связей, считает переводчик Михаил Яснов
Текст и коллаж: ГодЛитературы.РФ
Несколько месяцев назад образовательный проект «Арзамас» опубликовал большой материал под названием «Как читать американских поэтов XX века». Он чрезвычайно нам понравился, но оставил чувство некоторой незаконченности: отчего же только американских поэтов? В отличие от поп-музыки или кинематографа иные, неамериканские, поэтические традиции вполне живы и имеют резкие отличительные черты.
Мы попросили рассказать о них поэтов-переводчиков, изучающих эти черты постоянно. И, что важнее, через себя их пропускающих. Первым откликнулся - детский поэт и переводчик современной французской поэзии. Что, как следует из его обстоятельного текста, совсем не одно и то же.
Сандрар/Деги: Поэзия = комментарий
(Заметки переводчика)
Текст: Михаил Яснов
Классическая французская поэзия оперировала жесткими поэтическими формами: рондо и сонет, ода и баллада, эпиграмма и элегия - все эти виды стиха были тщательно разработаны, многократно и в мельчайших формальных подробностях воспроизведены авторами, старавшимися при помощи изощренной техники не только связать между собой прошлое и настоящее, но и буквально из каждого стихотворения вылущить злободневный смысл. Как правило, чувство превалировало над разумом, являя миру тысячи бытовых эпизодов, канувших в вечность, но из этих мелочей создавалась реальная, не выветрившаяся и по сей день мозаика жизни, в которой поэзия занимает существенное, а иногда и первостепенное место.
С конца XIX века она начинает освобождаться от накопленного «балласта» и все прошлое столетие ищет формы, адекватные подвижному и переменчивому состоянию умов, артикулируя известный тезис Тристана Тцара «Мысль делается во рту», все шире и последовательнее включая в область стихописания элементы, прежде ей чуждые или вспомогательные. В частности, акт поэзии теряет смысл вне биографического, реального, интертекстового комментария, который не просто сосуществует с конкретным поэтическим жестом, но нередко составляет его существенную часть, превращая стихотворение в игру интеллекта.
Два стихотворения, на которых мы остановимся, разделяет полвека. Срок исторически небольшой. Но это половина двадцатого столетия - самая разрушительная и новаторская во французской поэзии.
1. САНДРАР (1887-1961)
HAMAC |
ГАМАК |
|
|---|---|---|
| Onoto-visage Cadran compliqué de la Gare Saint-Lazare Apollinaire Avance, retarde, s’arrête parfois. Européen Voyageur occidental Pourquoi ne m’accompagnes-tu pas en Amérique? J’ai pleuré au débarcadère New-YorkLes vaisseaux secouent la vaisselle Rome Prague Londres Nice Paris Oxo-Liebig fait frise dans ta chambre Les livres en estacade Les tromblons tirent à noix de coco «Julie ou j’ai perdu ma rose» Futuriste Tu as longtemps écrit à l’ombre d’un tableau A l’Arabesque tu songeais O toi le plus heureux de nous tous Car Rousseau a fait ton portrait Aux étoiles Les oeillets du poète Sweet Williams Apollinaire 1900-1911 Durant 12 ans seul poète de France |
Оно-то-лицо Запутанное время о этот вокзал Сен-Лазар Аполлинер Спешит отстает иногда застывает на месте Европеец Фланер Почему ты со мной не поехал в Америку? Я рыдал на причале Нью-Йорк На судне качает посуду Рим Прага Лондон Ницца Париж Небеса твоей комнаты украшены «Оксо-Либихом» Книги высятся эстакадой Стрельба наудачу «Жюли, или Моя потерянная роза» Футурист Ты долго работал в тени знаменитой картины Мечтая об Арабеске Самый счастливый из нас Ведь тебя рисовал Руссо На звездах Sweet Williams гвоздика Поэта Аполлинер 1900-1911 Единственный французский поэт этого двенадцатилетия. |

(1887-1961) - швейцарский и французский писатель/ru.wikipedia.org
Стихотворение «Гамак» входит (под седьмым номером) в цикл Блеза Сандрара «Девятнадцать эластических стихотворений», опубликованный отдельной книгой в 1919 г. Большинство текстов появилось в периодике 1913-1918 гг., но написано в основном в 1913-1914 гг. («Гамак» - в декабре 1913 г.), в эпоху «предвоенного авангарда» - l’avant-garde d’avant gerre, по игровой формуле комментатора Сандрара Мари-Поля Беранже
, и при первых журнальных публикациях (1914 и 1918 гг.) носило названия «Аполлинер» и « ».
В исследовании «Аполлинер и К°» литературовед Жан-Луи Корниль
показывает, что это стихотворение рядом намеков и ассоциаций напрямую связано со стихотворением Аполлинера «Сквозь Европу» - Á travers l’Europe (оба были опубликованы в периодике весной 1914 г.), в частности, с намерением Сандрара иронически обыграть «темноту» аполлинеровского текста, но не столько его расшифровывая, сколько усугубляя новыми коннотациями.

Гийом Аполлинер (1880-1918) - французский поэт, один из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала XX века/ru.wikipedia.org
Стихотворение Аполлинера - это попытка средствами поэтической речи передать живопись Марка Шагала, в дружбе с которым находились оба поэта. Сандрар подхватывает и «доигрывает» аллюзии Аполлинера.
В частности, по Ж.-Л. Карнилю, название «Гамак» («Hamac») это анаграмма посвящения Аполлинером своего стихотворения (А M. Ch.): Сандрар пародийно переставляет четыре буквы посвящения, превращая их в новое слово (A.M.C.H. - HAMAC)
Еще большую амплитуду возможных прочтений вызывают первые строки обоих поэтических текстов («Rotsoge / Ton visage écarlate…»
у Аполлинера и «Onoto-visage…»
у Сандрара). Экзотическое Rotsoge, предшествующее дальнейшему портрету Шагала (Ton visage écarlate - Твое пунцовое лицо…), трактуется то как перевод с немецкого rot + Sog («красный след за кормой судна
» - намек на рыжую шевелюру художника), то как rote + Аuge («красный глаз»
), то как перевод немецкого же слова Rotauge - «красноперка», слово, похожее на дружеское прозвище . Так же, как первая строка стихотворения Сандрара, фонетически обыгрывающее зачин Аполлинера, трансформируется в Onoto-visage, подсказывая переводчику свою игровую аллюзию («Оно-то-лицо»
). Первое стихотворение воспринимается как претекст, второе - как реминисценция, ироническая реплика в разговоре .

Анри Руссо
«Муза, вдохновляющая поэта» Портрет Гийома Аполлинера и его возлюбленной Мари Лорансен. 1909
Все стихотворение - это цепочка аллюзий на отношения между Сандраром и Аполлинером, вернее - на отношения Сандрара к Аполлинеру: «Гамак» - это раскачивание между восхищением и соперничеством .
Известно, что свою первую поэму «Пасха в Нью-Йорке», написанную в Америке в апреле 1912 года и завершенную летом по возвращении в Париж, Сандрар в ноябре послал Гийому Аполлинеру. И
здесь начинается загадочная история, на долгие годы омрачившая отношения между поэтами.
То ли Аполлинер не получил рукопись поэмы, то ли сделал вид, что не получил, - во всяком случае через два месяца она так же по почте вернулась к Сандрару без каких-либо пометок. Это было время, когда Аполлинер писал свою «Зону», интонационно, психологически да и многими чисто поэтическими ходами напоминающую «Пасху», и это, в свою очередь, определило многолетние дискуссии французских исследователей о «первичности» той или иной поэмы. Тем не менее, худо-бедно поэты подружились, и после кончины Аполлинера Сандрар воздал ему честь, написав, что все поэты современности говорят на его языке - языке Гийома Аполлинера. В последних трех строчках стихотворения «Гамак» Сандрар тоже вроде бы воздает честь Аполлинеру, однако эти три строки, подобные эпитафии на могильной плите, выглядят как «примечательно дерзкие» ; их автор подчеркивает, что, начиная с 1912 года (то есть с даты написания «Пасхи»), «единственный французский поэт» лишился своего первенства, поскольку их теперь стало двое «первых» - он и Сандрар.
Таким образом, поэзия становится текстом для посвященных. При этом необходимые комментарии разветвляются, включая в себя расшифровку реалий, порою весьма запутанных, -

как, например, «запутанное время» вокзала Сен-Лазар: читателю следует знать, что в конце XIX — начале XX вв. на парижских вокзалах существовало «внешнее» и «внутреннее» время. Так, на вокзале Сен-Лазар часы в зале отправления поездов показывали точное парижское время, а часы, установленные непосредственно на платформах, показывали время опоздания поезда .

(фр. Marie Laurencin,1883-1956) - французская художница/ru.wikipedia.org
Итак, реалии. Упоминание Сандраром «Оксо-Либиха» отсылает к знаменитой в начале века компании «Мясной экстракт Либиха», производившей этот ставший популярным продукт, разработанный немецким химиком Юстусом фон Либихом (1803-1873) еще в сороковые годы XIX века. Либих основал первое в мире производство бульонных кубиков, к которому позднее присоединилось еще одно предприятие «быстрой еды» - «Оксо». Но главное, что должен был знать читатель Сндрара, - в конце XIX — начале XX вв. в большой моде были цветные плакаты с рекламой этой компании, которые служили как декоративные украшения помещений. Отсюда строка «Небеса твоей комнаты украшены «Оксо-Либихом» .
По воле Сандрара читатель должен был знать и то, что Аполлинер был знатоком потаенной и эротической литературы, собирателем «книжного либертинажа»;
в доме поэта «книги высятся эстакадой», из которой «наудачу» можно вытянуть какой-нибудь томик малопристойного содержания, например, роман «Жюли, или Моя спасенная роза» - первый французский эротический роман, написанный женщиной и приписываемый писательнице Фелисите де Шуазёль-Мёз (1807); опять же по воле Сандрара название романа в тексте его стихотворения обретает противоположный содержанию смысл: «Жюли, или Моя потерянная роза».

«Аполлинер и его друзья», 1909 г.
«Ты долго работал в тени знаменитой картины / Мечтая об Арабеске…» - продолжает Сандрар, вспоминая картину Таможенника Руссо «Муза, вдохновляющая поэта» (1909), на которой изображены и Гийом Аполлинер. При этом хорошо бы помнить еще и то, что Аполлинер не раз ассоциировал живопись Мари Лорансен с арабесками. В частности, в эссе, посвященном ее творчеству, - оно вошло в книгу Г. Аполлинера «О живописи. Художники-кубисты» (1913) - поэт говорит о том, что Лорансен «создавала полотна, на которых причудливые арабески переходили в изящные фигуры» , и отмечает: «Женское искусство, искусство мадемуазель Лорансен стремится стать чистым арабеском, очеловеченным внимательным соблюдением законов природы; будучи выразительным, он перестает быть простым элементом декора, но при этом остается столь же восхитительным» . Наконец, загадочная строка «Sweet Williams гвоздика Поэта» сквозь Sweet Williams - английское название турецкой гвоздики - отсылает нас к , в которых Sweet Williams (Милый Вильям) - одно из традиционных имен романтического героя.
2. ДЕГИ (р. 1930)
LE TRAITRE |
ИЗМЕННИК |
|
|---|---|---|
| Les grands vents féodaux courent la terre.
Poursuite pure ils couchent les blés, délitent les fleuves, effeuillent chaume et ardoises, seigneurs, et le peuple des hommes leur tend des pièges de tremble, érige des pals de cyprès, jette des grilles de bambou en travers de leurs pistes, et leur opposent de hautes éoliennes.
Le poète est le traître qui ravitaille l’autan, il rythme sa course et la presse avec ses lyres, lui montre des passages de lisière et de cols Poèmes de la presqu’île (1962) |
Под всевластьем ветров поникают земли.
Вихри, чистой воды потрава, они пригибают злаки, разделяют реки, осыпают с крыш солому и шифер, а род человеческий ловит их в сети осин, городит городьбу кипарисов, ставит ловушки бамбуковых зарослей на протоптанных тропах и воздвигает высокие ветряки.
А поэт – изменник, он раздувает мехи горячего ветра, он задает ритм его движениям, он их подстраивает под звуки своей лиры, он знает, где есть горловина, а где – обрыв. Стихи с полуострова» (1962) |

Мишель Деги (фр. Michel Deguy, 1930) - французский поэт, эссеист, переводчик/ru/wikipedia.org
Мишель Деги любит и умеет рассуждать о поэзии в любых ее проявлениях, любит пояснять собственные стихи - равно в самих же стихах или в многочисленных интервью и статьях, - неукоснительно подчеркивая свое главное пристрастие: гнездование в языке. Язык - дом его метафор, он это повторяет на все лады: «стихотворение при особом свечении затмения - затмения бытия - выявляет всё (вещи, названные частично и отсылающие ко всему) и свет в том числе, а именно: речь».
Ему вторят исследователи.
«Деги из тех поэтов, которые воспринимают написанное не только как синоним слова «говорить», но и слова «делать» ,

(итал. Andrea Zanzotto; 1921-2011) - итальянский поэт/ru.wikipedia.org
Замечает в предисловии к сборнику Деги «Надгробья» (1985) Андреа Занзотто
. В языке всё едино - писание, говорение, делание; каждый звук свидетельствует в пользу соседнего.
Всю жизнь Деги исследует «неясные зоны»
поэтической речи, то, что сам называет «сдваиванием, связыванием»
противоположностей - тождества и различия, имманентности и трансцендентности. Это поэтика, героями которой становятся не столько предметы, явления или обстоятельства человеческой жизни, сколько многочисленные связи и отношения между ними. Здесь любой способ обозначения может дать повод к рождению поэзии. В мире, где дополнение, коннотация, т. е. комментарии зачастую важнее непосредственного объекта, аллюзии и аналогии обретают живые черты; у них своя драматургия, свой театр:
Деги слышит и использует поэзию в качестве некоего «основного метафорического статута»: «Поэзия под стать любви рискует всем во имя знаков», - пишет он в одном из стихотворений. «Жизнь моя тайна того как», - рассуждает в другом. «Поэзия есть обряд», - формулирует в третьем.
Жан Николя Артюр Рембо (1854-1891) - французский поэт/ru.wikipedia.org
Ему не нужно называть своих литературных предшественников. Если, например, он пишет «пора в чистилище» (la saison en purgatoire) , то это прозрачная отсылка к Рембо, к «Поре в аду» (Une saison en enfaire). Чрезвычайно важный для поэтики Деги Аполлинер (а до и сквозь него - Малларме ) может возникать на страницах его книг на нескольких уровнях - от цитатных вариаций («Сена была зеленой в твоей руке / Там дальше моста Мирабо…» ) до ритмического уподобления, диктующего строение поэтической фразы:
Sous le pont Mirabeau coule la Seine…
(Под Мостом Мирабо исчезает Сена…)
Les grands vents féodaux courent la terre…
(Под всевластьем ветров поникают земли…)
Обращение к «литературному прошлому» становится таким же способом исследования современности, как сама ссылка на того же Аполлинера - объектом работы «внутри» языка.
Поэзия становится комментарием к самой себе.

Стефан Малларме (фр. Stéphane Mallarmé) (1842-1898) - французский поэт, ставший одним из вождей символистов. Отнесён Полем Верленом к числу «проклятых поэтов»/ru.wikipedia.org
Собственно, всю совокупность творчества Деги (он бы сказал: «сущнокупность» - l’être-ensemble des œuvres) можно представить богатейшим объектом такой работы. Примеры из Деги могли бы проиллюстрировать словарь лингвистических терминов. Фигуры его поэтической речи - от простейшего пропуска звеньев, смысловых ассонансов (как, например, многократно обыгрывавшийся дуплет seul / seuil - порог / одинокий
) или виртуозной словесной игры с самим словом «слово» до наиболее сложных обозначений глубинного герметизма - становятся панорамой современной поэтической полистилистики.
Прежде бы сказали, что Деги, следуя разветвленной традиции ХХ века, разрушает язык. Однако сгущение суггестии приводит к новым формам поэтического выражения. Так в одном из характерных стихотворений цикла «Подмога-память» он разлагает слово commun («общий») на comme un («как один»), в очередной раз подчеркивая, что поэзия есть бытие слова и понятия comme - «как». Это путь к разрастанию метафорической картины мира, к тому четвертому измерению, о котором мечтали великие лирики прошлого.
Поль Валери (фр. Paul Valéry 1871-1945) - французский поэт, эссеист, философ/ru.wikipedia.org
В этой картине для Деги принципиально важна смесь жанров и типов письма - стихи и пометы на полях, многостраничные эссе и краткие зарифмованные метафоры. Главное - смесь поэзии и прозы, prosème; в его поэтике перерастание одного в другое происходит естественно, границы стерты, теоретический трактат может закончиться поэтической миниатюрой, лирическое четверостишие - политическим манифестом. Фрагменты вновь создают целое, которое распадается на фрагменты, - но не развоплощается.
Своему представлению («Современная литература,
- говорит он, - скорее представляется отмеченным Валери
колебанием между»;
между прозой и поэзией, к примеру) Деги посвятил отдельную статью «Шарканье метлы на улице прозы», в которой, в частности, отмечал:«Современный поэт по собственной воле поэт-организатор (поэтизатор). Ему нравится вертеться в колесе (и с колесом), замыкающим мысль поэтики и поэтику мысли.
Поэтика - «поэтическое искусство», объясняющееся интересом к стихотворению и к его композиции, - соединяет и сочленяет два основных ингредиента: формальность с откровением».
Сближение поэзии с философией, перетекание ее в эссеистику, восстановление на ином, ментальном, уровне пропущенных звеньев, создают особую логику поэтического текста, когда «внутренний комментарий» (читай: интеллект) становится источником живых страстей и в конечном счете возвращает нас к земным печалям и радостям, подчеркивая вековечную готовность поэзии быть призванной на подмогу души и памяти.
ПРИМЕЧАНИЯ
Berranger M.-P. commente «Du monde entier au cœur du monde» de Blaise Cendrare. Paris, 2007. P. 95.
Cornille J.-L. Apollinaire et Cie. Paris, 2000. P. 133.
Bohn W. Orthographe et interprétation des mots étrangers chez Apollinaire. Que Vlo-Vе? Sèrie 1 № 27, janvier 1981, P. 28-29. См. также: Hyde-Greet A. “Rotsoge”: à travers Chagall. Que Vlo-Ve? Sèrie 1 № 21-22, jullet-octobre 1979, Actes du colloque de Stavelot, 1975. P. 6.
Cornille J.-L. P. 134.
Berranger M.-P. Р. 87.
Leroy C. Dossier // Cendrars Blaise. Poésies complètes. Paris, 2005. P. 364.
Angelier M. Le voyage en train au temps des compagnies, 1832-1937. Paris, 1999. P. 139).
Apollinaire G. Mlle Marie Laurencin // Œuvres en prose complètes. V. 2. Paris, 1991. P. 34,39.
Zanzotto A. Préface à Gisants // Deguy M. Gisants. Poèmes I-III. Paris, 1999. P. 6.