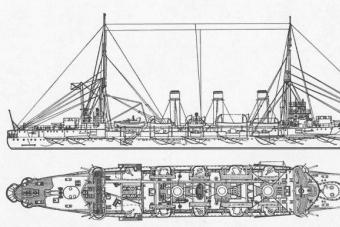*У Куприна есть рассказ о даме, которая ехала с жестоким и грубым мужем в поезде. Муж уснул и храпел - устал замечания делать и одергивать… И дама разговорилась с молодым офицером - совершенно невинный разговор, о посторонних вещах.
О том, как в детстве можно замереть - и время словно замедляется, его течение становится иным, и это - почти вечность… О том, как таинственно и странно сидеть под столом, отъединившись от всего мира, трогать бахрому на скатерти… О странной горечи в груди, когда смотришь на пылающие и гаснущие угли… Такие разговоры они вели и прекрасно понимали друг друга; все эти ощущения, чувства, переживания у них были общие, понятные, одинаковые, и говорили они взахлеб о жизни души под храп и завывания спящего грубого человека, стараясь тихо шептать - чтобы не нарушить его сон. Но он все равно проснулся, перевернулся, что-то злобно бормоча в адрес жены. Молодому офицеру надо было выходить - вот уже его станция. И он вдруг понял, что никогда, никогда он не встретит более близкой и родственной души, с которой так счастливо можно жить, просто - быть вместе… И они вместе и вышли, даже не взяв багаж дамы - в полную неизвестность, но и в полную свободу. Они решились и смогли.
Рассказ написан за несколько лет до революции и кровавых событий - будем надеяться, что они успели пожить и порадоваться. Жизнь коротка. То революция, то война, то старость пришла… Но они решились. А многие - не решаются, когда им выпадает огромное счастье - встретить родственную душу. И остаются в вагоне, машут на прощанье и всю жизнь тоскуют и плачут об утраченной любви. Об утраченной возможности любви. Страшно рисковать, страшно оставлять чемоданы с нажитым барахлом, страшно менять жизнь, - это так понятно. Но родственную душу человек встречает всего раз в жизни - если встречает. Не всем это дано. И полное понимание, духовная близость - это и есть истинная любовь. И, наверное, мешкать не надо - поезд едет дальше. Время не ждет. И души не хотят расставаться… И это просто напоминание о любви и быстротечности жизни - иногда об этом надо напомнить тем, кто никак не может решиться.*
Другие статьи в литературном дневнике:
- 21.10.2018. Творите добро...
- 03.10.2018. Успейте вовремя сойти
Многие литературные критики считают, что Александр Куприн так и не стал «великим писателем», но читатели с ними не согласны – Куприн и сегодня остаётся одним из самых читаемых и переиздаваемых русских авторов. Человек нелёгкой судьбы он перепробовал множество профессий: был рыбаком, цирковым борцом, землемером, пожарным, военным, рыбаком, шарманщиком, актёром и даже дантистом. Мы же хотим рассказать нашим читателям про главные страсти в жизни этого замечательного писателя.
Страсть первая - Мария Давыдова
В первый раз Александр Куприн женился в 32 года на 20-летней дочери
известной издательницы журнала "Мир Божий" и покойного директора Петербургской консерватории Маше Давыдовой. Она была остроумная, яркая, шумная и всегда претендовала на первые роли. Куприн свою молодую супругу обожал страстно, с трепетом относился к её литературному вкусу и всегда прислушивался к её мнению. Мария в свою очередь делала всё возможное, чтобы обуздать буйный нрав мужа и сделать его салонным писателем. Но ему ближе были шумные трактиры.

С неорганизованностью и неусидчивостью мужа Мария боролась достаточно жёсткими методами. Из-за загулов Куприн никак не мог дописать свою повесть «Поединок», тогда супруга заставила его снять квартиру, выпроводив из дома. Навещать жену и дочь он мог только в том случае, если приносил новые страницы рукописи. Но как-то Куприн принёс старую главу. Мария была обижена обманом и заявила, что теперь она будет забирать страницы рукописи только через приоткрытую на цепочку дверь.
В мае 1905 году повесть, наконец, издали. Это произведение принесло Куприну не только всероссийскую, но и мировую славу. Но семья не стала счастливее. Супруги то расходились, то сходились, а в результате стали чужими людьми и мирно расстались.
Страсть вторая - Елизавета Гейнрих

Лиза Гейнрих родилась в Оренбурге в семье венгра Морица Гейнрих Ротони, женившегося на сибирячке. Она несколько лет жила в семье Куприных и за достаточно скромное вознаграждение помогала по хозяйству и нянчила их дочь. Но Куприн обратил на неё внимание через несколько лет на модной вечеринке, где блистал будущий известный актёр Качалов.
Куприн признался Лизе в любви, а она, чтобы не разрушать семью, ушла из дома Куприных и устроилась на работу в госпиталь. Впрочем, семью, в которой уже царил разлад, это не спасло. Куприн ушёл из дома и начал жить в гостинице «Пале-Рояль», а потом купил в рассрочку домик в Гатчине, где и прожил с Лизой восемь полных безмятежности лет.

Елизавета Морицовна была скромна, покладиста и на первые роли, в отличие от первой супруги Куприна, не претендовала. Вера Николаевна Муромцева, супруга Ивана Бунина, вспоминала один эпизод, когда муж и Куприн однажды заскочили ненадолго в "Пале-Рояль", где "застали Елизавету Морицовну на площадке… третьего этажа. Она была в домашнем широком платье (Лиза в это время ждала ребенка)". Бросив ей несколько слов, Куприн с гостями отправился в поход по ночным притонам. Продолжалось это не час и не два, и все это время беременная женщина простояла в ожидании на лестничной площадке.
Порой Куприны ненадолго расставались: Елизавета Морицовна, отказывая себе во всём и выкроив нужную сумму денег из скудного семейного бюджета, отправляла своего благоверного на юг отдохнуть. Куприн ехал один – на отдых супруги денег не хватало. Правда, прожив с Елизаветой Морицовной 22 года, он написал ей: «Нет никого лучше тебя, ни зверя, ни птицы, никакого человека!»
Страсть третья - алкоголь
Женщин Куприн, безусловно, любил, но была у него и по-настоящему пагубная страсть – алкоголь. Он был уже известным писателем, а рассказами о его пьяных выходках пестрели газеты: писатель кого-то облил горячим кофе, выбросил из окна, кинул в бассейн со стерлядью, воткнул кому-то в живот вилку, выкрасил голову масляной краской, поджег платье, пьянствовал в ресторане, пригласив весь мужской хор Александро-Невской лавры; то три дня пропадал у цыган, а то приводил домой пьяного попа-расстригу.
Знавшие Курина говорили, что ему достаточно одной рюмки водки, чтобы нарываться на ссору с каждым встречным. Про Куприна даже ходили эпиграммы: «Если истина в вине, сколько истин в Куприне» и «Водочка откупорена, плещется в графине. Не позвать ли Куприна по этой причине»
Когда-то его 4-летняя дочь от первого брака прочитала гостям стишок собственного сочинения:
У меня есть папа,
У меня есть мама.
Папа много водки пьет,
Его за это мама бьет…
А Ксения Куприна, его дочь от второго брака, будучи уже взрослой вспоминала: «В Петербург отец ездил регулярно, по иногда застревал там на недели, попадая под влияние литературной и артистической богемы. Мать самоотверженно боролась с плохим окружением отца, оберегала его покой, вырывала из дурных компаний, выгоняла из дома некоторых литературных «жучков». Но слишком много могучих противоречивых жизненных сил бродило тогда в отце. Даже небольшое количество алкоголя превращало добрейшего Куприна в человека буйного, озорного, с бешеными вспышками гнева».
Страсть четвёртая - Россия
В 1920 году после окончания Первой мировой войны и разгрома, белых в гражданской войне, Куприн покидает Россию. Он прожил во Франции 20 лет, но так и не смог адаптироваться в чужой стране. Материальное положение супругов было весьма непростым. Заработки самого Куприна носили случайный характер, а коммерческие предприятия Елизаветы Морицовны не удавались. Она переводила на французский язык известные произведения Куприна, а ему писать новые было всё труднее. Его постоянно угнетала тоска по России. Единственное крупное произведение, написанное ив эмиграции – роман «Юнкера», в котором «несуразная, милая страна» предстает перед нами такой светлой, очищенной от всего неглавного, второстепенного...
О ПОНИМАНИИ У Куприна есть рассказ о даме, которая ехала с жестоким и грубым мужем в поезде. Муж уснул и храпел - устал замечания делать и одергивать… И дама разговорилась с молодым офицером - совершенно невинный разговор, о посторонних вещах. О том, как в детстве можно замереть - и время словно замедляется, его течение становится иным, и это - почти вечность… О том, как таинственно и странно сидеть под столом, отъединившись от всего мира, трогать бахрому на скатерти… О странной горечи в груди, когда смотришь на пылающие и гаснущие угли… Такие разговоры они вели и прекрасно понимали друг друга; все эти ощущения, чувства, переживания у них были общие, понятные, одинаковые, и говорили они взахлеб о жизни души под храп и завывания спящего грубого человека, стараясь тихо шептать - чтобы не нарушить его сон. Но он все равно проснулся, перевернулся, что-то злобно бормоча в адрес жены. Молодому офицеру надо было выходить - вот уже его станция. И он вдруг понял, что никогда, никогда он не встретит более близкой и родственной души, с которой так счастливо можно жить, просто - быть вместе… И они вместе и вышли, даже не взяв багаж дамы - в полную неизвестность, но и в полную свободу. Они решились и смогли. Рассказ написан за несколько лет до революции и кровавых событий - будем надеяться, что они успели пожить и порадоваться. Жизнь коротка. То революция, то война, то старость пришла… Но они решились. А многие - не решаются, когда им выпадает огромное счастье - встретить родственную душу. И остаются в вагоне, машут на прощанье и всю жизнь тоскуют и плачут об утраченной любви. Об утраченной возможности любви. Страшно рисковать, страшно оставлять чемоданы с нажитым барахлом, страшно менять жизнь, - это так понятно. Но родственную душу человек встречает всего раз в жизни - если встречает. Не всем это дано. И полное понимание, духовная близость - это и есть истинная любовь. И, наверное, мешкать не надо - поезд едет дальше. Время не ждет. И души не хотят расставаться… И это просто напоминание о любви и быстротечности жизни - иногда об этом надо напомнить тем, кто никак не может решиться.
Александр Иванович Куприн
На разъезде
Текст сверен с изданием: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. М.: Худ. литература, 1970. Том 1 Стр. 2 32 - 2 40 . В вагон вошел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их полотняными занавесками. Сетки с наваленными на них чемоданами, узлами и шляпами, фигуры пассажиров, которые или спали, или равномерно и безучастно вздрагивали, сидя на своих местах, печь, стенки диванов, складки висящих одежд -- все это потонуло в длинных тяжелых тенях и как-то странно и громоздко перепуталось. Шахов нагнулся вперед, чтобы увидеть лицо своей соседки, и тихо спросил: -- Что? Очень устали, Любовь Ивановна? Она поняла его желание. Повинуясь бессознательному и тонкому инстинкту кокетства, она отделила тело от спинки дивана и улыбнулась. -- Нет, нет, мне хорошо. Лежащая против разговаривающих и покрытая серым шотландским пледом фигура грузно перевернулась с боку на спину. -- Не понимаю, Люба, что здесь хорошего? -- пробурчал из-под пледа осипший от дороги мужской голос. Ни Любовь Ивановна, ни Шахов не отвечали, но нежная улыбка, беспричинная и волнующая улыбка первых намеков сближения, мгновенно сбежала с их лиц. Шахов ехал из Петербурга в Константинополь и затем в Египет. Эта поездка была его давнишней, заветной мечтой, но до сих пор ее исполнению мешали то недостаток времени, то недостаток средств. Теперь, продав небольшое имение, он собрался в дорогу, счастливый и беспечный, с одним легким чемоданом в руках. И вот уже двое суток, начиная от самого Петербурга, странная прихоть судьбы сделала его неразлучным спутником и собеседником очаровательной женщины, которая с каждым часом нравилась ему все больше и больше. Что-то непонятное, привлекательное и совсем не похожее на прозу обыденной жизни казалось Шахову в этом быстром и доверчивом знакомстве. Ему нравилось подолгу глядеть на ее тоненькую, изящную фигурку, на ее разбившиеся пепельные волосы, на нежные глаза, окруженные тенью усталости. Ему нравилось сквозь ритмический грохот вагонов слушать ее мягкий голос, когда им обоим благодаря шуму приходилось близко наклоняться друг к другу. Когда наступали сумерки, непонятное и привлекательное становилось совсем сказочным... Милое лицо начинало то уходить вдаль, то приближаться; каждую минуту оно принимало все новые и новые, но знакомые и прекрасные черты... И под размеренные звуки летящего поезда Шахову все напевались звучные стихи: "Свет ночной, ночные тени... тени без конца... ряд волшебных изменений милого лица". Иногда он нарочно ронял платок или спичечницу на пол, чтобы украдкой заглянуть ближе в ее лицо, и каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку... Потом наступала ночь... Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась. И они садились рядом друг с другом, совсем близко, и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он с дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее ложиться. О чем они разговаривали -- пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою... Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную и сложную мысль, а другой уже понял. И первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше -- он уже по одной улыбке видит, что его поняли,-- а впереди есть еще столько важного и интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников. Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми и, наконец, с женщинами и глупыми и некрасивыми. Но никогда еще он не встречал женщины, которая так бы с полуслова понимала его и так бы живо и умно интересовалась всем тем, чем и он интересовался, как Любовь Ивановна, которую он знал всего вторые сутки. Только все, что у него было заносчиво, резко и горячо,-- у нее облекалось в какую-то неуловимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изящной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги. Шахов с непривычки не умел спать в вагоне. Несколько раз ночью проходил он мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна. И каждый раз -- впрочем, может быть, он и ошибался -- ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами. Утром они встречались. Следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло -- и развившиеся воло-сы, и расстегнувшаяся пуговица воротника лифа, позволявшая видеть прекрасные очертания шеи, и томный, ослабевший взгляд. В продолжение дня ему нравилось оказывать ей разные мелкие услуги при пересадках и во время обедов и ужинов на станциях. Еще больше ему нравилось то, что она принимала его услуги без ломанья и без приторного избытка благодарностей. Она видела, что такая внимательность с его стороны к ней доставляет ему удовольствие,-- и это было ей приятно. Зато всю прелесть этого быстрого сближения портил господин Яворский -- муж Любови Ивановны. Трудно было придумать более типичную бюрократическую фи-зиономию: выбритый жирный подбородок, окаймленный круглыми баками, желтый цвет лица, снабженного всякими опухолями, складками и обвислостями, стеклянно-неподвижные глаза... Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны. И тем у него было только две: петербургские сплетни в сфере чиновничьего мира и собственные ревматизмы и геморрои, которые он ехал теперь купать в одесских лиманах. Болезни служили особенно излюбленным предметом разговора. О них он говорил с видимой любовью, громко, подробно и невыносимо скучно, говорил со всяким желающим и нежелающим слушать, говорил так, как умеют говорить только самые черствые себялюбцы. С женой он обращался то язвительно-нежно, на "вы", то умышленно деспотично. Она, по летам, годилась ему в дочери, и Шахову казалось, что муж на нее смотрит, как на благоприобретенную собственность. Он заставлял ее покрывать ему ноги пледом, брюзжал на нее с утра до вечера, карикатурно и отвратительно-злобно передразнивал почти каждую из ее робких, обращенных к нему фраз. Встречая в этих случаях взгляд молодого художника, Яворский глядел на него так, как будто бы хотел сказать: "Да, да, вот и погляди, как у меня жена выдрессирована; и всегда будет так, потому что она моя собственная жена". -- Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна: угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом? -- спросил язвительно Яворский и приподнялся налокте.-- Что вы, именно, находите хорошим? Она отвернулась к окну и молчала. -- Ну-с? -- продолжал Яворский, выдержав паузу.-- Или вы находите, что другим ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что-с? -- Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть,-- вмешался Шахов. -- Хе-хе-хе... очень вам благодарен за разъяснение-с,-- обратился Яворский к художнику.-- Но мне все-таки желательнее было бы лично выслушать ответ из уст супруги-с. Любовь Ивановна нетерпеливо и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами. -- Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло,-- сказала она сдержанным тоном.-- Monsieur Шахов спросил меня, удобно ли мне, и я отвечала, что мне хорошо. Вот и все. Яворский приподнялся совсем и сел на диван. -- Нет, не все-с. Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это -- вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе не трудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем. Не правда ли, господин художник? А во-вторых, супружество, налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому... И он долго и растянуто говорил от обязанностях хорошей жены. Любовь Ивановна сидела, низко опустив голову. Шахов молчал. Наконец Яворский утомился, прилег и продолжал лежа свои разглагольствования. Потом он совсем замолчал, и вскоре послышалось из-под пледа его всхрапывание. После долгого молчания Шахов первый начал разговор. -- Любовь Ивановна,-- сказал он, соразмеряя свой голос так, чтобы он не был за стуком колес слышен,-- мы с вами так о многом говорили... Почему же... Я боюсь, впрочем, показаться нескромным и, может быть, даже назойливым... Она сразу схватила то, что он хотел сказать. -- О нет, нет,-- живо возразила она.-- Это ничего, что наше знакомство слишком коротко... Знаете... знаете...-- Она запнулась и искала слова. -- Хоть это и странно, может быть, да ведь и все у нас с вами как-то странно складывается... Но мне кажется, что я вам все бы, все могла рассказать, что у меня на душе и что со мной было. Так бы прямо, без утайки, как своему...-- она остановилась и, сконфузившись своего мгновенного порыва, не договорила слова "брату". Шахова эта вспышка доверчивости и тронула, и ужасно обрадовала. -- Вот, вот, я об этом и хотел сказать,-- торопливым шепотом заговорил он.-- Ах, как хорошо, что вы так сразу меня поняли. Расскажите мне о себе побольше... только, чтобы вам самой это не было больно... Ведь как много мы с вами переговорили, а я до сих пор ничего о вашей жизни не знаю... Только не стыдитесь... И завтра не стыдитесь... Может быть, мы и разъедемся через четверть часа, и не встретимся никогда больше, но все-таки это будет хорошо. -- Да, да... Это -- хорошо... И -- правда? -- как-то смело... ново... одним словом, хорошо! Да? -- Оригинально? -- Ах, нет. Не то, не то! Оригинально -- это в романах, это придуманное... А здесь что-то свежее... Ничего такого больше не повторится, я знаю... И всегда будешь вспоминать. Правда? -- Да. А вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять... -- Тому, с кем только что встретишься? -- Да, да... Потому что с близким знакомым уже есть свои прежние отношения. Так по ним все и будет мериться... Но мы с вами отклоняемся. Пожалуй, и не дойдем до того, о чем стали говорить. Рассказывайте же о себе. -- Хорошо... Но я затрудняюсь только начать... И кроме того, я боюсь, чтобы не вышло по-книжному. -- Ничего, ничего. Рассказывайте, как знаете. Ну, начинайте хоть с детства. Где учились? Как учились? Какие были подруги? Какие планы строили? Как шалили? В это время поезд с оглушительным грохотом промчался по мосту. Мимо окон быстро замелькали белые железные полосы мостового переплета. Когда грохот сменился прежним однообразным шумом, Яворский вдруг сразу перестал храпеть, перевернулся, поправил под головой подушку и что-то произнес. Шахову послышалось не то "черт побери", не то "спать только мешают!". Любовь Ивановна и Шахов замолчали и с возбужденно-нетерпеливым ожиданием глядели на спину Яворского. В этом молчании оба чувствовали что-то неловкое и в то же время сближающее. -- Ну, говорите, говорите,-- шепнул наконец Шахов, убедившись, что Яворский опять заснул. Она рассказывала сначала неуверенно, запинаясь и прибегая к искусственным оборотам. Шахов должен был ей помогать наводящими вопросами. Но постепенно она увлеклась своими воспоминаниями. Она сама не замечала, как ее душа, до сих пор лишенная ласки и внимания, точно комнатный цветок -- солнца, радостно распускалась теперь навстречу теплым лучам его участия к ней. Язык у нее был своеобразно-меткий, порой с наивными институтскими оборотами. Любовь Ивановна не помнила ни отца, ни матери. Троюродной тетке как-то удалось поместить ее в институт. Время учения было для нее единственным светлым временем в жизни. Несчастье ждало ее в последнем классе. Та же тетка, совсем забывшая Любу в институте, однажды взяла ее в отпуск и познакомила с надворным советником Александром Андреевичем Яворским. С тех пор надворный советник аккуратно каждое воскресенье под именем дяди появлялся в приемной зале института с пирожками от Филиппова и конфетами от Транже. Любовь Ивановна, беспечно смеясь вместе с подругами над дядей, так же беспечно поедала дядины конфеты, не придавая им особенно глубокого смысла. Бедная институтка, конечно, не могла и подозревать, что Александр Андреевич давно уже взвесил и рассчитал свои на нее виды. В минуту откровенности, сладострастно подмигивая глазком, он уже не раз говорил друзьям о невесте. "Дураки только,-- говорил он,-- женятся рано и черт знает на ком. Вот я, например. Женюсь, слава богу, в чинах и при капитальце-с. Да и невеста-то у меня будет прямо из гнездышка... еще тепленькая-с... Из такой что хочешь, то и лепишь. Все равно как воск". -- Да и наивная я уж очень была в то время,-- рассказывала Любовь Ивановна.-- Когда он был женихом, мне, пожалуй, и нравилось. Букеты... брошки... брильянты... приданое... тонкое белье... Только когда к венцу повезли, я тут все и поняла. Плакала я, упрашивала тетку расстроить брак, руки у нее целовала... не помогло... А Александр Андреевич нашел даже, что слезы ко мне идут. С тех пор я так и живу, как видите, четыре года... -- Детей у вас, конечно, нет? -- спросил Шахов. -- Нет. Ах, если бы были! Все-таки я знала бы, для чего вся эта бессмыслица творится. К ним бы привязалась. А теперь у меня, кроме книг, и утешения никакого нет... Она среди разговора не заметила, как поезд замедлял ход. Сквозь запотевшие стекла показалась ярко освещенная станция. Поезд стал. Разбуженный тишиною Яворский проснулся и быстро сел на диване. Он долго протирал глаза и скреб затылок и, наконец, недовольно уставился на жену. -- Ложись спать, Люба,-- сказал он отрывисто и хрипло.-- Черт знает что такое! И о чем это, я не понимаю, целую ночь разговаривать? Все равно путного ничего нет.-- Яворский опять почесался и покосился на Шахова.-- Ложись вот на мое место, а я сидеть буду. Он приподнялся. -- Нет, нет, Саша, я все равно не могу заснуть. Лежи, пожалуйста,-- возразила Любовь Ивановна. Яворский вдруг грубо схватил ее за руку. -- А я тебе говорю -- ложись, и, стало быть, ты должна лечь! -- закричал он озлобленно и выкатывая глаза.-- Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то уголкам шепталась... Здесь не номера, черт возьми! Ложись же... Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать замужнюю женщину. Ложись! Он с силой дернул кверху руку Любови Ивановны и толкнул при этом локтем Шахова. Художник вспыхнул и вскочил с места. -- Послушайте! -- воскликнул он гневно, -- я не знаю, что вы называете порядочностью, но, по-моему, насилие над... Но ему не дала договорить Любовь Ивановна. Испуганная, дрожащая, она бессознательно положила ему руку на плечо и умоляюще шептала: -- Ради бога! Ради бога... Шахов стиснул зубы и молча вышел на платформу. Ночь была теплая и мягко-влажная. Ветер дул прямо в лицо. Пахло сажей. Видно было, как из трубы паровоза, точно гигантские клубы ваты, валил дым и неподвижно застывал в воздухе. Ближе к паровозу эти клубы, вспыхивая, окрашивались ярким пурпуром, и чем дальше, тем мерцали все более и более слабыми тонами. Шахов задумался. Его попеременно волновали: то жалость и нежность к Любови Ивановне, то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через два-три часа он должен ехать в сторону и уже никогда больше не возобновится встреча с этой очаровательной женщиной... Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход? Покорится ли она своей участи полурабы, полуналожницы, или,-- об этом Шахов боялся думать,-- или она дойдет наконец до унижения адюльтера под самым носом ревнивого мужа? Шахов и не заметил, как простоял около получаса на платформе. Опять замелькали огни большой станции. Поезд застучал на стыках поворотов и остановился. "Станция Бирзула. Поезд стоит час и десять минут!" -- прокричал кондуктор, проходя вдоль вагонов. Шахов машинально засмотрелся на вокзальную суету и вздрогнул, когда услышал сзади себя произнесенным свое имя. -- Леонид Павлович! Он обернулся. Это была Любовь Ивановна. Инстинктивно он протянул ей руки. Она отдала ему свои и отвечала на его пожатие долгим пожатием, глядя молча ему в глаза. -- Леонид Павлович,-- быстро и взволнованно заговорила она. -- Только десять минут свободных. Мне бы хотелось... Только, ради бога, не откажите... Мне давно... никогда не было так хорошо, как с вами... Может быть, мы больше не увидимся. Так я хотела вас просить взять на память... Это мое самое любимое кольцо... и главное -- собственное... Пожалуйста!.. И она, торопясь и конфузясь, сняла с пальца маленькое колечко с черным жемчугом, осыпанным брильянтиками. -- Дорогая моя Любовь Ивановна, как все у вас хорошо! -- воскликнул Шахов. Он был растроган и чувствовал, что слезы щиплют ему глаза.-- Дорогая моя, зачем мы с вами так случайно встретились? Боже мой! Как судьба иногда зло распоряжается! Я не клянусь: ведь вы знаете, что мы никогда друг другу не солгали бы. Но я ни разу, ни разу еще в моей жизни не встречал такого чудного существа, как вы. И главное, мы с вами как будто нарочно друг для друга созданы... Простите, я, может быть, говорю глупости, но я так взволнован, -- так счастлив и... так несчастлив в то же время. Бывает, что два человека, как две половины одной вазы... Ведь сколько половин этих на свете, а только две сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру, хотя и так я всегда бы вас помнил... Только, боже мой, зачем не раньше мы с вами встретились! И он держал в своих руках и нежно сжимал ее руки. -- Да,-- сказала она, улыбаясь глазами, полными слез,-- судьба иногда нарочно смеется. Смотрите: стоят два поезда. Встретились они и разойдутся, а из окон два человека друг на друга смотрят и глазами провожают, пока не скроются из виду. А может быть... эти два человека... такое бы счастье дали друг другу... такое счастье... Она замолчала, потому что боялась разрыдаться. -- Второй звонок! Бирзула -- Жмеринка! Поезд стоит на втором пути-и! -- закричал в зале первого класса протяжный голос. Внезапно дерзкая мысль осенила Шахова. -- Любовь Ивановна! Люба! -- сказал он, задыхаясь.-- Садимся сейчас на этот поезд и обратно. Ради бога, милая. Ведь целая жизнь счастья. Люба! Несколько секунд она молчала, низко опустив голову. Но вдруг подняла на него глаза и ответила: -- Я согласна. В одно мгновение Шахов уже был на полотне и на руках бережно переносил Любовь Ивановну на платформу другого поезда. Раздался третий звонок. -- Кондуктор! -- торопливо крикнул Шахов, сбегая по ступенькам с платформы.-- Вот в этом вагоне с той стороны сидит господин... Полный, в бакенбардах, в фуражке с бархатным черным околышем. Скажите ему, что барыня села и уехала благополучно с художником. Возьмите себе на чай. Свисток на станции. Свисток на паровозе. Поезд тронулся. На платформе никого не было, кроме Шахова и Любови Ивановны. -- Люба, навсегда? На всю жизнь? -- спросил Шахов, обвивая рукой ее талию. Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди. <1894>
В.В. Вересаев в своей работе о Толстом сделал, на наш взгляд, весьма спорное замечание: «В большинстве случаев жизнь писателя сама по себе удивительно не интересна, обидно не интересна. И они совершенно не заслуживают биографии. Все интересное, все глубокое и
прекрасное, все живое, что в них есть, они вкладывают в свои книги, и для жизни ничего не остается»9.
Но так ли это? Так ли «безынтересна» жизнь С.А. Есенина или А.А. Ахматовой? Можно ли назвать безынтересной жизнь А.С. Грибоедова или А.С. Пушкина?.. При всем уважении к личности и творчеству В.В. Вересаева нам очень трудно согласиться с ним в этом вопросе. И доказательством, своего рода подтверждением нашей позиции является жизнь А.И. Куприна, его удивительная и трагическая судьба. В биографии Куприна можно найти все: неравный брак его родителей (его мать - урожденная княжна Кулунчакова, а отец - мелкий чиновник Иван Куприн), раннее сиротство (отец умер, когда мальчику еще не было и года), семнадцатилетнее затворничество во всякого рода казенных заведениях (московский сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище); затем, после нескольких лет унылой военной службы в провинции, выход в отставку, полуголодное существование человека без профессии, первые литературные удачи, стремительный взлет, слава, деньги, кутежи, безудержная трата сил и - в эмиграции, в далеком Париже - быстрое физическое угасание, нужда, жестокая и непрестанная тоска по России; наконец осуществившаяся мечта вернуться на Родину...
Куприн вошел в наш литературный обиход как певец светлых, здоровых чувств, как наследник демократических и гуманистических идей великой русской литературы XIX века. Он оставил нам прекрасные образцы реалистического повествования, строгого и динамичного по сюжету, лаконичного, интересного в психологическом плане. В его произведениях мир высоких искренних чувств противостоит пошлости, духовному рабству окружающей жизни.
Такова и судьба писателя. Куприн жил «на полную катушку», он не терпел получувств, полуэмоций, полу-любви. Если он сердился, то от гнева его дрожали стены, если он радовался, то это была по-детски наивная, светлая, всеобъемлющая радость. Его дружба была безоговорочна и крепка, ненависть - бескомпромиссна. Ну а если он любил, то любовь эта захватывала его всего, без остатка и превращалась в некий импульс для его жизни и творчества.
Куприн не умел жить без любви, это чувство питало его изнутри, наполняло его энергией, давало живительные силы даже в самые трудные моменты жизни, когда все вокруг казалось безотрадным и бессмысленным. В дни тяжелых личных неприятностей и связанных с ними переживаний Куприн «увядал», он не мог работать, нередко он уходил в запои, стараясь «утопить» свои тяжелые мысли в стакане вина. Друзья находили его в такие дни потерявшим человеческий облик, и только любовь могла вывести Куприна из этого страшного забытья, только ей было под силу разрушить этот кошмарный сон.
Любовь соединила Куприна с двумя женщинами, которым суждено было стать его женами: первый раз его женой стала юная Мария Давыдова, второй - Лиза Гейнрих Ротони, такие разные женщины!
Именно этих женщин без памяти любил Куприн: каждую по-своему, разной любовью, но все же любил по-настоящему, без притворства и лжи. Именно они не только сыграли огромную роль в личной жизни писателя, но и оказали огромное влияние на его творчество. Поэтому, памятуя о том, что все сюжеты для своих рассказов Куприн черпал из своей жизни (он назвал ее «канвой» для рассказов), будет очень уместно подробнее рассказать о женщинах, которых любил Куприн, ведь эта любовь дала толчок для создания многих произведений писателя. Мы построим наше повествование на биографической основе, так как считаем недопустимым «вырывать» отдельные бессвязные факты из биографии писателя. Воспоминания первой жены Куприна - Марии Карловны о «годах молодости», его дочери от второго брака - Ксении, его друзей будут приведены нами на фоне всего жизненного пути писателя со дня первой встречи с Марией Давыдовой до дня смерти на руках у Елизаветы Морицовны. Как нам кажется, такое построение повествования поможет глубже раскрыть роль этих женщин в жизни и творчестве Куприна.
В ту пору, когда молодая девушка, Мария Давыдова, познакомилась со своим будущим мужем, Куприн был только на пути становления писателя. С этих лет и начинается повесть Марии Карловны Куприной - Иорданской «Годы молодости», написанная много лет спустя. Годы молодости - это годы первых литературных связей и знакомств, порывов и искренних чувств.
Куприна и Марию Карловну связывают не только годы, когда они были мужем и женой и совместно руководили «Миром Божьим». Чувство дружбы и доверия к своей первой жене Куприн сохранил на всю дальнейшую жизнь, хотя, конечно, нельзя сказать, что у них обошлось без взаимных обид и упреков, особенно после развода.
Знакомство Куприна с Марией Давыдовой произошло в доме Давыдовых, куда Куприна привел Бунин, чтобы представить своего товарища издательнице популярного литературного журнала «Мир Божий» Александре Аркадьевне Давыдовой.
В тот день Александра Аркадьевна из-за недомогания не могла заниматься делом, поэтому навстречу гостям вышла ее дочь: двадцатилетняя Мария. Когда появилась молодая брюнетка с лицом красивой цыганки, но одетая с той подчеркнутой простотой, которая говорит о безукоризненном вкусе, Куприн невольно отступил назад, за спину щеголеватого, ловкого Бунина. Мария Карловна так вспоминает эту роковую для нее и Куприна встречу:
«- Здравствуйте, глубокоуважаемая! - обратился он (Бунин) ко мне. - На днях прибыл в столицу и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам свое нижайшее почтение. - Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, поклонился еще раз и продолжал торжественно серьезным тоном: - Разрешите представить вам жениха -моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание талантливый беллетрист, недурен собой. Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прошу любить и жаловать!
Довольный своей выдумкой, Бунин лукаво посмеивался. Куприн сконфуженно переминался с ноги на ногу и, смущенно улыбаясь, мял в руках плоскую барашковую шапку. В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротнике, каких уже давно не носили в Петербурге, и большом желтом галстуке с крупными ярко-голубыми незабудками, Куприн... казался неуклюжим и простоватым провинциалом.
Так вот, почтеннейшая, - продолжал Бунин, когда мы сели, - сядем, посидим, друг на дружку поглядим. У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец...
И как деревенский сват, выхваляя жениха, Бунин в то же время рассказывал о Куприне различные смешные анекдоты.
Этот фарс, неожиданно придуманный Иваном Алексеевичем, был очень забавен. И на его вопрос: «Так как же, глубокочтимая, нравится вам женишок? Хорош?...» - Я поддержала шутку:
Нам ничего... да мы что... как маменька прикажут, их воля...»10.
Куприн молчал: ему становилось все более неловко, и бунинская затея его не веселила. Молодая хозяйка быстро заметила это и незаметно перевела разговор в иную плоскость. Она вспомнила Крым, начала расспрашивать Куприна об общих знакомых, в числе которых оказался Сергей Яковлевич Елпатьевский. Куприн тотчас оживился, исчезла связанность движений, другим стало выражение лица. Начались разговоры о Чехове, во время которых Куприн окончательно обрел смелость, а вместе с ней и живой дар речи. Прощаясь, Мария Давыдовна передала Куприну от имени матери приглашение бывать у них, когда Александра Аркадьевна поправится. И предложила обязательно зайти в редакцию журнала «Мир Божий», к редактору и критику Ангелу Ивановичу Богдановичу.
Злость точила Куприна.
«Наивный провинциал приехал завоевывать Петербург!.. Зачем я согласился пойти с этим дурацким визитом к Давыдовым? - корил себя Куприн. - Сама издательница не сочла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня, видимо, слишком много думает о себе... Очень она мне нужна... Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто бы позволил им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А еще приглашала бывать! Покорнейше благодарю! Ноги моей
там не будет! Но к Богдановичу я, конечно, на днях зайду...»11.
Редакция журнала «Мир Божий» занимала несколько комнат в той же большой квартире Давыдовых. В ближайший вторник, приемный день Богдановича, Куприн появился в его кабинете, побеседовал с сотрудниками журнала. Во время этого разговора в комнату вошла полная блеклая дама - редактор журнала Давыдова. Александра Аркадьевна подошла к Куприну, подала ему рыхлую в перстнях руку и пригласила остаться у нее отобедать. Приглашение застигло Куприна врасплох. Он растерялся и от застенчивости не сумел отказаться. Поднимаясь на второй этаж вслед за Богдановичем, Куприн снова ругал себя за то, что опять стушевался перед «этими благополучными представителями света».
Дочь Давыдовой, встретившая их в уютной столовой, показалась ему еще краше, чем при знакомстве. Но то, что она - светская дама, а он -провинциальный писатель, казалось ему непреодолимой пропастью в отношениях между ними. Его раздражало у Давыдовых все: безукоризненно накрахмаленные салфетки и скатерть, тяжелое столовое серебро, переливчато мерцающий хрусталь, дорогие вина, маринады, балыки. Двум горничным помогала подавать на стол хрупкая девушка, почти девочка - Лиза Гейнрих(!П), младшая сестра покойной жены Мамина -Сибиряка Марии Морицовны. (Удивительное дело! Здесь, в одной комнате рядом с Куприным, находились обе женщины, которым каждой в свое время суждено будет стать его женами). Куприн равнодушно скользнул взглядом по точеному личику Лизы, по белой наколке (Лиза, несколько лет прожившая в семье Давыдовых, работала теперь в Георгиевской общине сестер милосердия и лишь изредка навещала Александру Аркадьевну). Когда Куприн прощался, Александра Аркадьевна благосклонно предложила ему «запросто» заходить к ним в дом. С того дня он зачастил к Давыдовым, где делился своими петербургскими впечатлениями, огорчениями и радостями с новым другом - Марией Давыдовой. Он стал все чаще бывать у них в доме, хотя Александра Аркадьевна не придавала особого значения его визитам. Она не всегда выходила вечером в столовую, но за хозяйку оставалась тетушка Марии Вера Дмитриевна Бочечкарева, которая разливала чай. Потому отсутствие Александры Аркадьевны не нарушало общепринятых правил.
В короткий срок все в доме незаметно привыкли к Куприну. Он стал своим человеком. Давыдовой Куприн все больше нравился: его непосредственность, жизнерадостность, отвлекали ее от постоянных тяжелых дум о своей болезни и о смерти старшей дочери. Она охотно слушала купринские живописные рассказы о военной службе, о жизненных приключениях, о знакомых писателя. А он уже влюблен в ее младшую дочь.
В сочельник, накануне нового, 1902 года, улучив возможность побыть минутку с Марией наедине, Александр Иванович сказал:
Вы, конечно, давно уже почувствовали, как я отношусь к Вам...- Он замялся, его открытое, чистое и доброе лицо покраснело.- Но ведь я плебей, сирота, провел детские годы с матерью во Вдовьем доме, в Москве... А вы... Вы светская девушка, привыкшая к столичному обществу, дорожащая своим кругом, титулованными родственниками и петербургскими знаменитостями...
Продолжайте, Александр Иванович! - поощрила его Мария.
Я мечтал бы, чтобы вы связали со мною свою судьбу... Но кто я? Бывший офицер с ограниченным образованием... Беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося...
Вы мне тоже не безразличны,- тихо сказала Мария.- Я верю в ваш талант. В ваше будущее... И откровенность за откровенность. Я очень люблю маму...- Она запнулась.- Александру Аркадьевну... Но ведь я даже не знаю, кто мои родители... Меня подкинули в младенчестве. А Александра Аркадьевна меня удочерила, окрестила и воспитала...
Маша! - воскликнул Куприн, взял ее маленькую ручку в свою, грубую и сильную, и прижал к губам; затем не сразу прикрыв глаза, тихо сказал: - «Такой вы мне еще дороже!..»12.
Утром на другой день она сообщила матери, что стала невестой Куприна.
Александра Аркадьевна была шокирована этой неожиданной новостью. Ее очень возмутило и, скорее даже, обидело то, что дочь не спросила ее совета в таком серьезном вопросе. Кроме того, знакомство Марии и Куприна исчисляется всего лишь несколькими месяцами... Но уже через пару дней Давыдова пригласила их к себе и после серьезного разговора дала согласие на этот брак.
Вечером, в канун Нового года, Александр Иванович принес своей невесте обручальное кольцо, на внутренней стороне которого было выгравировано: «Всегда твой Александр. 31.12.1901 года».
Свадьба была назначена на февраль. Куприн сообщил о готовящейся женитьбе своей матери Любови Алексеевне, по-прежнему жившей в Москве во Вдовьем доме. Она ответила, что тоже счастлива, что он, наконец, женится, покончив со своей бродячей, скитальческой жизнью, что у него будет своя семья, свое гнездо.
3 февраля 1902 года, в день свадьбы, в столовой собрались только те, кто должен был провожать Марию в церковь: жена Мамина - Сибиряка (бывшая Машина гувернантка) посаженная мать -- Ольга Францевна, посаженный отец - Михайловский и четыре шафера. Куприну полагалось встретиться с невестой только в церкви, но он пренебрег условностями и тоже ожидал Марию в столовой. При ее появлении Ольга Францевна спешно закрыла большую белую коробку, у нее на глазах были слезы
На вопрос Марии, что случилась, ответил Куприн:
«- Ольга Францевна не знала, что тетя Вера уже позаботилась о подвенечных цветах, и привезла еще одну коробку... Что ж, Маша, быть тебе два раза замужем. Такая примета. А в приметы я верю...»13.
Куприн снял небольшую комнатку недалеко от квартиры Давыдовой, чтобы Мария всегда была близко от своего родного дома.
Каждое утро после чая Куприн садился читать и править рукописи для «Журнала для всех», а Мария уходила к Александре Аркадьевне и проводила там весь день. К шести часам, когда Куприн возвращался из редакции, они обедали у тещи, а после обеда приходили к себе в каморку, и вечер принадлежал уже только им. Здесь в маленькой квартирке, Куприн делился с женой творческими замыслами, рассказывал о себе, о прошлых скитаниях, о том, что его близко затрагивало и волновало.
Рано утром 24 февраля 1902 года Александра Аркадьевна Давыдова скончалась от паралича сердца. После ее кончины Куприны заняли в ее большой квартире скромную комнату тетушки Марии - Бочечкаревой, которая уехала в Москву.
Куприн работал тогда заведующим отделом прозы в «Мире Божьем» и параллельно он задумал написать роман «Поединок», где главным действующим лицом будет он сам. Куприн рассказал Марии о своих планах, об огромной важности этой темы для него - бывшего военного. Он хотел освободиться от огромного груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Этот роман должен был стать настоящей бомбой, брошенной в адрес царской армии, и единственный достойный ответ на него Куприн видел в запрещении «Поединка».
По вечерам Куприн рассказывал жене о своей военной юности, откуда он черпал материал для будущей повести. И в один из вечеров он приблизился к жене и спросил, не обидится ли она, если он расскажет ей о своей первой любви, это связано с его армейскими воспоминаниями. Мария нисколько не противилась, даже наоборот - ее задело скрытое недоверие Куприна о его первой любви, поскольку оно напрямую касается темы нашей работы. Более того, многие факты из этой истории позже найдут свое отражение в повести «Поединок».
История эта произошла тогда, когда Александр служил в Проскурове - типичном провинциальном городке, маленьком, заброшенном и сонном. Основная масса населения - городские обыватели: мещане, торговцы, служащие и т.п. Жизнь солдат и офицеров в такой глуши была гадкой, отвратительной, тоскливой. «Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво?»- спрашивал себя Куприн.
Однажды на большом полковом балу в офицерском собрании Куприн познакомился с молодой девушкой. «Как ее звали, не помню - Зиночка или Верочка, во всяком случае не Шурочка, как героиню «Поединка», жену офицера Николаева. Ей только что минуло 17 лет. У нее были каштановые, слегка вьющиеся волосы и большие синие глаза. Это был ее первый бал. В скромном белом платье, изящная и легкая, она выделялась среди обычных посетительниц балов, безвкусно и ярко одетых. Верочка - сирота, жила у своей сестры, бывшей замужем за капитаном. Он, состоятельный человек, неизвестно по каким причинам оказался в этом захолустье. Было ясно, что он и его семья -- люди другого общества... »14.
В эту пору Куприн мнил себя поэтом и писал стихи. С увлечением наполнял разными «элегиями», «стансами» и даже «ноктюрнами» свои тетради, не посвящая никого в эту тайну. Но к Верочке он сразу почувствовал доверие и, не признаваясь в своем авторстве, прочел несколько стихотворений. Она слушала его с наивным восхищением, что сразу их сблизило. О том, чтобы побывать в доме ее родных, нечего было и думать.
Однако подпоручик «случайно» все чаще и чаще встречал Верочку в городском саду, где она гуляла с детьми своей сестры. Скоро о частых встречах молодых людей было доведено до сведения капитана. Он пригласил к себе подпоручика и предложил ему объяснить свое поведение. Всегда державший себя корректно с младшими офицерами, капитан, выслушав Куприна, заговорил с ним не в начальническом, а в серьезном, дружеском тоне старшего товарища. На какую карьеру мог рассчитывать не имевший ни влиятельных связей, ни состояния бедный подпоручик армейской пехоты, спрашивал он. В лучшем случае Куприна переведут в другой город, но разве там жить на офицерское жалование - сорок восемь рублей в месяц - его семье будет легче, чем здесь? Как Верочкин опекун капитан был готов дать согласие на ее брак с Куприным лишь в том случае, если он окончит Академию Генерального штаба и перед ним откроется военная карьера. И, как Николаев в «Поединке», Куприн засел за учебники и с лихорадочным рвением начал готовиться к экзаменам в академию. С мечтой стать поэтом он решил временно расстаться и даже выбросил почти все тетради со своими стихотворными упражнениями, оставив лишь немногие, особенно нравившиеся Верочке.
Летом 1893 года Куприн уехал из Проскурова в Петербург держать экзамены.
Экзамены шли гладко. Накануне сдачи последнего экзамена неожиданно поступило распоряжение генерала Драгомирова командующего войсками Киевского военного округа - о запрещении Куприну продолжать сдачу экзаменов и о немедленном отзыве его из Петербурга в полк. Причина такого начальнического гнева не до конца выяснена. По словам Ф.Д. Батюшкова, самого близкого друга Куприна, она заключалась в том, что незадолго до своего отъезда в Петербург Куприн нанес оскорбление полицейскому приставу, пытавшемуся в его присутствии обидеть девушку. Как рассказывает Батюшков (вероятнее всего, со слов самого Куприна), «этот эпизод произошел во время переезда на пароме»15. Жена писателя, Мария Карловна, придерживается другой версии. Встретив в Киеве товарищей по кадетскому корпусу, Куприн отправился с ними позавтракать в ресторане на барже, расположенном у берега Днепра. Околоточный велел освободить занятый офицерами столик, так как он уже был занят для пристава. Между офицерами и полицейскими чинами отношения всегда были натянутые. Знаться с полицией офицеры считали унизительным, и поэтому продолжали сидеть на своих местах. Околоточный вызвал хозяина и запретил ему принимать заказ. Тогда Куприн, взбешенный происшедшим, бросил его с баржи в Днепр: в воздухе мелькнули ноги околоточного, туша его плюхнулась за борт... Публика хохотала и аплодировала. Околоточный быстро выбрался на берег и, снова поднявшись на баржу, приступил к составлению протокола «Об утопии полицейского чина при исполнении служебных обязанностей»16. О происшедшем было доложено Драгомирову, который и воспретил подпоручику Куприну поступление в академию сроком на пять лет.
Мечты о блестящей военной карьере рушились, Верочка была потеряна.
Два бурных дня, проведенных в Киеве, основательно подорвали скудные средства подпоручика. Чтобы рассчитаться с хозяйкой квартиры и купить билет до Киева, Куприн продал револьвер. Когда он садился в вагон, в его кошельке оставалось несколько копеек. Увы, не очаровательная Верочка, а немолодая, увядшая дама, жена капитана, была в полку его музой... И оказался он с ней только потому, что молодым офицерам было принято непременно «крутить» роман... Над теми, кто старался избежать этого, изощрялись в остроумии.
О своем первом любовном опыте Куприн расскажет в «Поединке», о героинях которого, Шурочке Николаевой и госпоже Петерсон мы еще поговорим подробно в следующей главе работы.
Но вернемся в уютную комнатку к молодоженам Марии и Александру Куприным. Рассказ мужа Мария выслушала молча. Ее немного задело простодушие, с которым он рассказывал ей о подробности своей давней интимной жизни. Но скоро обида прошла: Куприн был с ней чрезвычайно внимателен, предупредителен и нежен. Он готовился стать отцом, и оберегал жену с отеческим вниманием и заботой.
Однажды вечером Куприн читал Марии Карловне написанные им новые главы «Поединка», четко следя за ее реакцией, даже за выражением лица: вкусу жены Куприн верил беспрекословно. В один день он добрался уже до пятой главы, рассказывающей о встрече Ромашова с Назанским.
«Пройдет двести-триста лет, и жизнь на земле будет невообразимо прекрасна и изумительна. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, мечтать о ней.
Вы говорите, через двести-триста лет жизнь на земле будет прекрасна, изумительна? Но нас тогда не будет, - вздохнул Ромашов».
На лице Марии Карловны отразилось недоумение, и Александр Иванович остановился.
В чем дело, Маша? Тебе не нравится?
Да нет, мне все это нравится, но я не понимаю, почему в монолог Назанского ты вставил Чехова?
Как Чехова? - вскрикнул Куприн и побледнел.
Но это уже у тебя почти дословно из «Трех сестер». Разве ты не помнишь слова Вершинина?
Что? Я...я, значит, взял у Чехова?! Он вскочил. Тогда к черту весь «Поединок»... - И, стиснув зубы, разорвал рукопись на мелкие части и бросил в камин. Не сказав более ни слова, Куприн вышел из комнаты. Домой он вернулся только под утро»17.
В течение нескольких недель Мария Карловна без ведома Куприна склеивала папиросной бумагой отрывки рукописи. Работа была очень кропотливой, требовавшей большого внимания, и восстановить рукопись удалось только потому, что Мария Карловна хорошо знала содержание глав. Черновиков у Куприна не было: он уничтожил их, как варианты своих произведений, чтобы они больше не попадались ему на глаза.
Месяца через три Куприн признался жене извиняющимся тоном, что в порванной рукописи было кое-что недурно написано и что ему жаль этих уничтоженных страниц. Мария Карловна молча подошла к бюро и вынула из ящика, страницы, восстановленные ею. Куприн был по-детски счастлив. Он бросился целовать жену. Он перебирал страницы, смеялся детским смехом и целый день ходил в приподнято-торжественном настроении.
Странное дело! Внешне все шло у них прекрасно, лучше некуда. Росла Лидочка - Люлюша, радуя ласковостью, пытливостью, вызывая острые отцовские чувства. Но Мария Карловна... От чего же она временами так раздражала его? Властная, волевая, слишком рациональная. Эти мысли овладевали Куприным все чаще. Об этом же он думал, направляясь к Мамину - Сибиряку, чтобы развеяться от владевшей им ипохондрии.
Поднимаясь по лестнице, Куприн вдруг поймал себя на том, что смутное волнение, ожидание чего-то, неясное и тревожное, охватило его.
Ему открыла дверь девушка в костюме сестры милосердия, темноволосая, с бледно-матовым точеным лицом и большими серьезными глазами. Глядя в землю, на ходу она сообщила, что Дмитрий Наркисович себя чувствует очень плохо, что ночью он перенес сердечный приступ.
«- Не знаю, как жив остался, - увидев Куприна, сказал Мамин - Сибиряк. - Если бы не Лиза, быть бы мне в селениях райских...
Какая Лиза? - удивился Куприн.
Да разве ты ее сейчас не встретил?
Сестра милосердия? Так это Лизочка? Сестра твоей покойной Маруси? Как она выросла! Какая красавица!
Смотри не влюбись... Дмитрий Наркисович быстро и внимательно поглядел на гостя.
Куда там! - добродушно засмеялся Куприн. - Она прошла и даже глаз на меня не подняла.
Девушка очень волнуется... Уезжает на Дальний Восток на войну... Отправляется по своему желанию...»18.
Поговорили на расхожие темы: о войне, о первых поражениях.
Куприн провел у Мамина целый день, чувствуя с возрастающим удивлением, что Лиза, не шутя, волнует его. Он корил себя за то «нелепое» чувство, которое зародилось в нем, ведь он на много лет старше Лизы и, кроме того, он - отец семейства, муж. Но, уезжая, просил Лизу написать о себе оттуда, с Дальнего Востока. Что-то тронулось - он чувствовал это - в душе, словно ему было обещано, что полоса неприятностей кончается, обещая впереди свет.
2 июля 1904 года не стало Чехова, друга и учителя Куприна. Его смерть выбила Куприна из рабочего настроения, и он снова, уже не впервые, отложил рукопись «Поединка».
Он приехал к жене в Крым, в Балаклаву, где она снимала три комнаты, после крупной размолвки, почти разрыва. В Петербурге в литературных светских салонах уже поговаривали об их разводе, жалели Марию Карловну и порицали Куприна за его несносный характер, вспыльчивость, неуживчивость. А он, притихший, подавленный, начинал и бессильно бросал очерк о Чехове - никак не получалось: Куприн комкал, швырял листы. Он опасался быть излишне сентиментальным, и в то же время, не мог писать сухо и холодно. Когда очерк «Памяти Чехова» был, наконец, закончен, он вернулся к рукописи «Поединка».
Накануне отъезда в Петербург Мария Карловна решительно заявила мужу, что им невозможно возвращаться вместе. Все уже знают об их разрыве, и с этим мнением придется считаться. Мария Карловна решила, что Куприн снимет себе холостую комнату, гарсоньерку, и будет работать над «Поединком», а она станет навещать его, но и он может приходить к ней, но только так, чтобы их не видели вместе. Комнату Куприн снял на Казанской улице, недалеко от Невского. Вечером, поработав над рукописью, он шел домой, в квартиру Давыдовых. Поднимался по черной лестнице, проходил через кухню в коридор в комнату Марии Карловны, чтобы не встретиться с ее знакомыми, которые в столовой могли пить чай или ужинать после театра. Утром, после завтрака, он уходил к себе на Казанскую. Когда работа над «Поединком» у Куприна пошла еще медленнее, Мария Карловна перестала мириться с этим и после его очередного кутежа она непреклонно заявила, что больше не намерена мириться с таким положением дел, поэтому запретила ему приходить домой без новой главы «Поединка». Теперь домой «в гости» Куприн приходил отдыхать только тогда, когда у него была написана новая глава или хотя бы часть ее. Однажды он принес Марии Карловне несколько старых страниц. Утром она заявила ему, что так обманывать ее ему больше не удастся - и распорядилась укрепить на внутренней двери кухни цепочку. Куприну приходилось, прежде, чем попасть в квартиру, просовывать в щель рукопись и ждать, пока она пройдет цензуру Марии Карловны. Если это был новый отрывок из «Поединка», дверь отворялась. Куприн молча страдал. Болезненно самолюбивый, он чувствовал себя униженным вдвойне, работа валилась из рук. А побывать в семье ему очень хотелось, и он опять приходил со старыми страницами, надеясь, что Мария Карловна их забыла. Но она не пускала его в дом, несмотря на мольбы, даже слезы. Занятый работой над «Поединком», Куприн чувствовал себя ослепшим и оглохшим: все, что творилось на улице, не долетало до него. И кровавые события 9 января 1905 года застали его совершенно врасплох: сперва подавили, а потом вызвали гнев и ярость. Что же касается Марии Карловны, то она в последнее время частенько выполняла поручения легального марксиста, критика Миклашевского - Неведомского и его друзей: то ей передавался на хранение какой-то пакет, то через нее назначали явки. Однажды Куприн, зайдя к ней, увидел странного незнакомца, который сразу попытался скрыться от глаз писателя. Мария Карловна не сказала, кто этот человек. Лишь позже она призналась мужу, что тем человеком был Гапон, которого прятали от полиции в ее доме.
Все имеет свой конец, и к середине 1905 года Куприн закончил «Поединок». Завершение такой серьезной работы немного расслабило Куприна. И как-то, прогуливаясь по берегу Невы и обдумывая итоги своей работы, он услышал за спиной знакомый голос Мамина - Сибиряка: - Слышал, слышал, что написали отличную вещь. Поздравляю!
Спасибо, Дмитрий Наркисович, - ответил Куприн и, взяв под руку, с внезапной для себя живостью спросил: - Что слышно о Лизе Гейнрих? Ничего не стряслось? Мамин помрачнел.
Скверная история. Представьте себе: сперва, тяжелейший путь до Мукдена. В иркутском туннеле поезд попал в катастрофу - первые жертвы. Потом полевой госпиталь... Лизочка вела себя самоотверженно, была награждена несколькими медалями. Ну а дальше самое неприятное...
Что? Ранена? Попала в плен? - в страхе сказал Куприн.
Другая катастрофа, личная. Полюбила молодого врача, грузина. Они обручились. А вы знаете, как чиста и добра Лизочка! И вдруг жених на ее глазах избивает беззащитного солдата и как - с увлечением, со смаком. - Мамин помолчал. Словно взвешивая слова, и затем произнес тише, глуше: - Она была так потрясена, что чуть не покончила с собой. Конечно, порвала с женихом и теперь снова живет у нас. Кстати, она спрашивала, как вы, что пишите... Подарите ей «Поединок», когда он выйдет.
Куприн был потрясен услышанным. Эта тоненькая и чистая девушка, стала очевидцем того, о чем Куприн писал в своей повести! Каково же было ей, если этого не смог вынести даже подпоручик Ромашов. После этого Лиза стала Куприну еще ближе и дороже, и мысли о ней стали посещать его все чаще.
Так, разговаривая о том, что волновало их обоих, Куприн и Мамин-Сибиряк заглянули по предложению последнего в «ресторанчик» «Капернаум». Несмотря на вывеску «ресторан», «Капернаум» оказался обычным трактиром, куда входили прямо с улицы, в пальто и калошах. Куприн пытливо оглядывал каждого посетителя, пытаясь определить его профессию, склад ума и характер. Алкоголь постепенно делал свое дело: незнакомые люди открывались друг другу, делились возвышенными мечтами и низменными помыслами.
С той поры Куприн зачастил в «Капернаум». Но писать он садился неохотно: не от простой лености, часто на него накатывалась апатия и все собственные писания казались слабыми. От рабочего стола его постоянно отвлекали или общение с людьми, или внутренний труд, у него постоянно рождались и двигались мысли, с которыми он не хотел расставаться. Кроме того, Куприн был глубоко несчастен: ему казалось, что жизнь загнала его в тупик, послав ему встречу с Лизой, о любви которой он мог только мечтать, не находя выхода своим душевным мукам. И с каждым днем ему было все сложнее успокаивать свои чувства.
Дошло до того, что Куприн третий день не являлся домой, загуляв с цыганами. Он снял огромный номер в «Большой Московской» гостинице, где и поселился вместе с табором. Когда к нему наведался Вересаев, он не узнал Куприна: хмельной, распухший, с растрепанными волосами. Вокруг него пели, плясали цыгане. Все: жена, семья, литература, собственное творчество казалось ему в эти минуты дурным, плоским, незначительным. Душа просила воли, простора, забвения себя. Вересаев бесстрастным голосом принялся отчитывать Куприна:
«- Что вы с собой делаете? Не жалеете семью, так хоть себя пощадите. На вас смотрит вся читающая Россия, а вы... Вы черт знает, чем занимаетесь!
Куприн пьяно с тоскливой злобой поглядел на него.
Ах, эта писательская судьба - чертовски сложная жизнь, когда за удачу приходится платить нервами, здоровьем, собою едва ли не больше, чем за неудачу, поражение. Как же, есть род окололитературной братии, которому извне, из их завистливой галерки, все видится по-иному: Куприн получает бешеные гонорары, Куприн - пьяница, дебошир, гуляка, Куприн - грубиян. Необразованный человек, бывший офицер... Куприн облил горячим кофе Найденова и разорвал на нем жилет... Куприн приткнул вилкой баранью котлету к брюху поэта Рославлева, при этом стал ее резать и есть, после чего оба плакали... А-а-а! Он оглянулся маленькими, налитыми кровью глазами.
Вспомните, наконец, что вы отец и муж, - заговорил Вересаев. - Муж? И все обидное, что перенес за эти годы Куприн от властной Марии Карловны, вдруг с мерзкой отчетливостью представилось ему. Он вспомнил, как она не пускала его в свою петербургскую квартиру без новой главы «Поединка». Как на даче под Лугой ударила его, беспомощно-пьяного, графином, как расчетливо играла на его чувстве к маленькой дочери Люлюше, как, желая поссорить с Батюшковым, намекала, будто Федор Дмитриевич в отсутствие Куприна пытался ухаживать за ней...
Он повернулся и на тяжелых ногах пошел в номер, рыча: «Вон! Все вон! Уходите!».
Вернувшись домой, Куприн объявил, что в Петербурге работать невозможно, что он отправляется в имение Батюшкова Даниловское и хочет взять с собой из Москвы мать Любовь Алексеевну. С ним собралась ехать и Мария Карловна с дочкой Лидой, присматривать за которой было предложено Лизе Гейнрих.
Сам Куприн старался заглушить в себе намек на чувство, которое давно уже жило в нем к этой изящной, простой и доброй девушке, но даже показное равнодушие давалось с огромным трудом. Случайное прикосновение к платью Лизы, встреча взглядов вызывали внутренний электрический разряд. Скрывая напряженность, Куприн старался шутить, балагурить, придумывать забавы не только для четырехлетней Люлюши, сколько для самой Лизы.
Лиза обожала Люлюшу, дочь Куприна. Она придумывала для нее смешные игры, фантазировала и смеялась, будто сама была ребенком. Это покоряло Куприна еще больше: по сравнению с серьезной, рациональной Марией Карловной Лиза была живой и непосредственной, она напоминала ему свежий полевой цветок, выросший под чистым небом и согретый ласковыми лучами весеннего солнца, тогда как его жена была больше похожа на величественную гордую розу, усыпанную шипами, которую вырастили в теплице заботливые людские руки. Да, роза красивый цветок, но так ли он мил и беззащитен, застенчив и ласков, как полевая ромашка или, например, василек?..
Куприн так полюбил Лизу, что уже не мог скрывать своего чувства. Первым, кто узнал об этой любви, был Батюшков, приехавший в Даниловское «погостить». Как-то, блуждая по имению и восхищаясь красотой природы, Батюшков воскликнул:
О нет! - пылко возразил Куприн. - Миром движет любовь. Только любовь!
Под красотой я разумею не просто эстетическое чувство, - пояснил он, - но все прекрасное, что умещает в себе наше «я»: общественное благо, мировую справедливость и мировую душу...
Простите, Федор Дмитриевич, но в ваших возвышенных границах мое «я» чувствует себя так же, как прошлогодний клоп, иссохший между двумя досками. Мое «я» требует полного расширения всего богатства моих чувств и мыслей, хотя бы самых порочных, жестоких и совершенно неприятных в обществе. И конечно, требует любви... Любовь - это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего «я»... Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность! Но в любви! Вся вышеперечисленная бутафория только и служит, что оперением любви...
«Э, друг мой!» - удивился Батюшков. - Вы говорите так романтически, словно сами влюблены, влюблены юношески...
Так оно и есть... Я люблю Лизу Гейнрих...
Бог мой! И это серьезно?
Как никогда в жизни, - упрямо проговорил Куприн. - И не знаю, что мне делать. Посоветуй, Федор Дмитриевич!
Ты говорил ей об этом? - Батюшков внимательно поглядел на Куприна.
Нет... Может быть, она о чем-то и догадывается, но у меня не хватает сил.
Ты обязан с ней объясниться! Понимаешь? Это совершенно необходимо сделать, чтобы не быть в двусмысленном положении...»21.
Поздно вечером того же дня Куприн назначил свидание Лизе в парке возле пруда. После пылких слов Куприна Лизу охватила паника «Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать Люлюшу отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя и у нее зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила свою жизнь. Лиза обратилась в бегство. Скрыв от всех свой адрес, она поступила в какой-то далекий госпиталь, в отделение заразных больных, чтобы быть совсем оторванной от мира»22.
В феврале 1907 года для друзей Куприных стало ясно, что супруги несчастливы и что разрыв неизбежен.
Куприн бушевал. Он переезжал из роскошных ресторанов в затрапезные кабачки вроде «Давыдки» и «Капернаума», пил в «Вене», гулял с цыганами... Лиза Гейнрих исчезла. Все розыски, предпринятые Куприным, оказались безуспешными. Куприн заливал свое горе водкой: утром он погружался в мутно - сладостный водоворот похмелья. За завтраком с водкой обсуждался только один вопрос: куда отправится сегодня.
Куприн вскочил на стол и принялся топтать по нему, разбивая крепкими ногами рюмочки, стаканчики, бутылки. Друзья, сидя на стульях, хлопали в ладоши. Куприну вдруг представилось, что он в Даниловском танцует на елке, а навстречу идет Батюшков. Батюшков помог ему слезть со стола.
За то время, пока Куприн мучался и страдал от горя, Федор Дмитриевич разыскал Лизу и уговорил ее вернуться к Куприну, приводя именно те аргументы, которые и могли ее поколебать. «Он говорил ей, что все равно разрыв с Марией Карловной окончателен, что Куприн губит себя и что ему нужен рядом с ним именно такой человек, как она.
Спасать было призванием Лизы, и она согласилась, но поставила условием, что Александр Иванович перестанет пить и поедет лечиться в Гельсинфорс»23.
19 марта 1907 года Куприн пишет Батюшкову, что Мария Карловна, вопреки воле Куприна, уже выпустила объявление о выходе «Поединка», и это может повредить его денежным делам, «... или, может быть, она это делала нарочно, назло, из упорства и мстительности? С нею ведь все возможно предполагать...»24. Куприн возмущен тем, что она на каждом шагу «сует» ему Люлюшу: «Это и выгодно и выставляет ее в привлекательном свете - любящей матери, оставленной негодяем - мужем. Я для Люлюши готов сделать решительно все, что в моих силах. Что же касается Елизаветы Морицовны..., то она Люлюшу любит чуть ли не больше, чем я, и всякий намек на то, чтобы девочку ограничить чем-нибудь, ее возмущает. Но ведь сама-то жизнь Люлюши при ней будет несчастная. М.К. только притворяется любящей матерью. Что она бросала девочку целыми днями и месяцами на тетю Лизу, это еще ничего - Лиза любит и до сих пор девочку... Но М.К. оставляла ее на попеченье вздорной, изломанной горничной, на попечение со всеми трюками бонны - немки со звериной мордой, крашеными волосами, лет 50-ти и в корсете. Вся ее забота о Люлюше заключалась только в том, что она по утрам брала ее в грязную постель и давала ей играть косой, или, уезжая из дома, дразнила ее: «А мама уезжает, бедная мама, а тебе не жаль мамы?»25 и т.д.
В этом же письме Куприн говорит Батюшкову, что очень дорожит его дружбой, и никогда бы не смог дурно говорить о нем: «Иногда я бывал несправедлив к тебе, но только тогда, когда М.К. уверяла меня, что ты был ее любовником. Я не верил, но впадал в сильное бешенство.
Она выдумывала про тебя дурацкие анекдоты, выдумывала прозвища и через день ссылалась на меня!»26.
Куприну было очень неприятно вспоминать все, что касалось Марии Карловны, особенно первое время после развода. Но рядом с ним была теперь другая женщина, и это помогало ему отвлечься от горьких воспоминаний и быть счастливым. Кроме того, в 1908 году у них рождается дочь - Ксения. Именно в это время, находясь на душевном подъеме и чувствуя себя по-настоящему счастливым, Куприн воплощает в жизнь свой давний замысел. Он создает шедевр мировой литературы - повесть «Суламифь», до сих пор пленяющую читателей своим неповторимым очарованием и прославлением высокой и чистой любви.
Счастье, всеохватывающее бурное чувство, близость любимой и любящей женщины. Но покой не приходил. Теперь, когда Куприн ясно понимал, что закладываются основы простого и прочного быта, семьи, особенно остро ощущались отсутствие очага, дома. Куприн мечется по России, ненадолго останавливается то в Гурзуфе, то в Гатчине, то в Ессентуках, куда его загоняет ревматизм, то задерживается в Житомире, где в это время была его любимая сестра Зинаида Ивановна Нат. В этот сравнительно короткий период кочевья, переездов, нахлынувших забот он пишет много и вдохновенно: «Суламифь», «Изумруд», начало «Листригонов», первую часть «Ямы»...
В Гатчине Куприн подыскал для покупки усадебку - дом на Елизаветинской улице.
«- Представляешь, Лизонька, - радовался он по-детски, - у нас будет дом на улице, которая названа в твою честь!..»27.
Домик был уютный, зеленый, в пять комнат, с большой террасой, окруженный тополями, с небольшим садиком и даже с огромным псом Малышом, которого оставил прежний хозяин. Вообще в гатчинском зеленом домике было множество животных: собаки, кошки, обезьяна; во дворе в деревянных и каменных пристройках - лошади, козы, медвежонок, куры, гуси. Перед домом Куприн разбил цветник, который благоухал на всю Елизаветинскую улицу.
А каким раем оказалась Гатчина для маленькой Ксении - мир животных и растений, прогулки с отцом по парку Приорат, ужение рыбы и плавание... Куприн любил дочь своеобразной «купринской» любовью. Он ненавидел всякое сюсюканье и «цацканье». Дети, даже самые маленькие, были для него существами с очень сложным, глубоким и ранимым естеством. Входить в их мир легкомысленно, по-шутовски и лицемерно он считал преступлением. Именно в таком подходе Куприн видел причину исконного разлада между детьми и взрослыми.
Наступил 1914 год. Чтобы помочь своей стране в войне, Куприн по предложению Елизаветы Морицовны решают устроить в своем доме скромный, на 10 коек, госпиталь. Сам Куприн стремился стать участником войны, попасть прямо «в дело», как и большинство русских литераторов и деятелей искусства, он воспринял эту войну, как, безусловно, освободительную, справедливую. Однако осуществиться этой мечте не удалось: 44-летний писатель после нескольких месяцев службы в Финляндии возвратился домой, похудевший и растерянный: это было разочарование в своих физических возможностях, в своем здоровье. Но Елизавета Морицовна, в душе жалея его, все же радовалась, что Куприн теперь дома, с ней и дочкой, где она вновь, как и десять лет назад, облачилась в костюм сестры милосердия. Маленькую форму сшили и пятилетней Ксении.
Купринский лазарет всегда был полон. Тон установился серьезный, деловой; в отношениях суровая и тонкая деликатность. Солдаты большей частью были люди душевные, милые. Куприн и его жена надолго запомнили их имена и гадали потом: как сложилась их судьба после войны.
Февральская революция 1917 года застала его в Гельсингфорсе, откуда он немедленно выехал в Питер. В этих событиях Куприн видел подтверждение своим мечтаниям о будущей свободной и сильной России. Он становится темпераментным газетчиком - публицистом, редактором эсеровской газеты «Свободная Россия». Из-под его пера выходят пламенные строки, обжигающие своим патриотическим, гражданственным накалом.
Но разруха, страшная разруха, надвигающая на страну, пугает и ужасает Куприн. Разруха уже стучалась в их дом: деньги ничего не стоили, а Елизавета Морицовна уже заложила в ломбард свои скромные драгоценности - брошку, серьги, три кольца, брелок и цепочку.
Вечерами за кофе, сваренным из сухой морковной ботвы, Куприн подолгу рассуждал о происходящем с Елизаветой Морицовной. Они жалели тех, кто вынужден был покинуть Россию и эмигрировать.
«- Нет, нет, никуда из нашей Гатчины мы не двинемся, - твердила жена.
Да, Лизанька, - подхватывал, горячась, Куприн, - эмигрантов можно только пожалеть. Вот мы - голодные, босые, голые, но на своей земле. А они? Безумцы! На кой прах нужны они в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры на своей родине!..
Им не позавидуешь, - качала головой Елизавета Морицовна». «Как она сжалась, уменьшилась от переживаний и недоедания - с грустной любовью подумал Куприн»28.
Между тем грозные события 1919 года не обошли Гатчину. В октябре в Гатчину вступил полк генерала Глазенапа. От одного из знакомых, Куприн узнал, что в списке, составленным большевиками его имя было одним из первых кандидатов в заложники и для показательного расстрела.
Куприн сделал свой выбор. После встречи с генералами Красновым и Глазенапом он дал согласие редактировать газету северо-западной армии «Приневский край». Это яростная антисоветская газета, в которой твердилось о близкой победе Юденича.
Война, которую вели белые против целого народа, была бессмысленной, обреченной. После широкого контрнаступления красных войска Юденича отошли в сторону Ямбурга, а затем - Нарвы. Началось паника. Впечатлениями горькими и страшными, Куприн был сыт по горло. Он видел зверства, кровь, подлость. Видел, как в пору голода гибли сироты, видел, как жирные пайки, посылавшиеся из Канады юго-западной армии, текли мимо голодных солдатских и беженских ртов в воровские интендантские чрева; видел, как в ноябрьскую стужу примерзали к полу загонов и умирали в муках раненые... Теперь неумолимая логика гнала его прочь за пределы возлюбленной им России.
Куприн с трудом отыскал семью, затерявшуюся в потоке беженцев, в самом Ямбурге, где «мешочничала» голодная Елизавета Морицовна. Уезжая, Куприн взял с собой лишь томик Пушкина, фотографии Толстого и Чехова, кое-что из белья. Ему не удалось захватить даже рукописи... При содействии Бунина Куприны поселились в Парижском квартале Пасси, облюбованном русскими эмигрантами, которые говорили: «Живем на Пассях». Одиннадцатилетнюю Ксению отдали в интернат монастыря «Дамы Провидения». Девочка жестоко страдала, видя родителей только в субботу и воскресенье: чужой язык, быт, едва ли не средневековые нравы. Но еще более страдал сам Куприн. Он очень переживал разрыв с Родиной, и на этой почве похудел, осунулся, постарел.
Двери купринской квартиры «на Пассях» всегда были распахнуты настежь: бесконечные гости осаждали писателя. Вся эта разношерстная, часто голодная эмигрантская братия мешала работе и форменным образом разоряла Куприных. Елизавета Морицовна, которая и раньше никогда не заботилась и не думала о себе, почти разучилась улыбаться.
Бывшая жена Куприна - Маша, Муся, Мария Карловна, - и их дочь Лида зовут его вернуться, обещают возможность спокойного творчества и трудовой, безбедной жизни. Прошлые обиды с годами забылись, а осталось уважение, дружеская симпатия. Мария Карловна, теперь уже не Куприна, а Иорданская, жена видного большевика, назначенного советским послом в Италии, и Куприн продолжали переписку, несмотря на их семейный разрыв. Они остались друзьями надолго; и их переписка доказывает это: каждая строка в них согрета уважением и дружеской поддержкой. А поддержка Куприну была нужна. Здесь, в эмиграции, его творчество стало ненужным. Для кого писать? Кто продолжит его дело? В конце концов, как писать о России, находясь вдалеке от нее? Оставалось одно - воспоминания.
Чуткая и самоотверженная Елизавета Морицовна с болью следила за тем, как гаснет в Куприне писатель. На ее хрупкие плечи легли теперь все житейские невзгоды - все муки за неоплаченные долги и добывание денег «хоть из-под земли» не только для собственной семьи, но и для нуждающихся друзей и знакомых. Видя, как тяжело Куприну писать на чужбине, как непостоянны заработки некогда знаменитого писателя, она решила заняться коммерцией. В 1926 году Елизавета Морицовна вместе с профессиональным мастером открыла переплетную мастерскую. В ее обязанности входило финансирование машин и сырье, а также сбор заказов.
Коммерческая затея отважной, но непрактичной женщины кончилась плачевно: компаньон оказался пьяницей, заказы не выполнялись в срок и мастерскую пришлось очень скоро закрыть. Тогда, продав переплетные машины, Елизавета Морицовна сняла маленькую лавочку на улице Эдмонда Роже, где устроила книжный и писчебумажный магазинчик. Чтобы ей не ездить далеко, Куприны перебрались на эту улочку, тихую и патриархальную. Однако очень мало народу заходило за книгами, и купринская лавочка прогорала. К тому же хозяйка, слабо знавшая французский, не могла толком объяснить покупателям, порекомендовать им новинку, посоветовать, что приобрести. Французские книжки постепенно заменялись старыми русскими, и лавочка превратилась в библиотеку. Когда аренда лавочки оказалась непосильной, стеллажи с книгами перекочевали прямо в квартиру Куприных и разместились в столовой. Расчет был нехитрый, рожденный все той же бедностью: «на Куприна» придут...
«Главную смену проводила Елизавета Морицовна, в качестве второго библиотекаря привлекли молодого писателя Николая Рощина. Иногда за дело брался и сам Куприн. Вот тут-то ему приходилось туго. Куда бы еще ни шло с автографами к книгам - нет, хлынули всякие господа с потными руками, но трубным голосом и однообразными приглашениями: зайти, выпить, «поговорить». И конечно, больше, чем от желания угостить, было здесь от особого, похоронно-свадебного честолюбия - похвастаться потом:
Опять вчера с этим, с Куприным, долбанули... Здорово, черт его, пьет!..
И еще одна пришла египетская казнь - бесконечные поэты, мемуаристы, дебютанты, решившие писать, потому что больше нечего делать»29.
Куприн страдал молча, жалея больше себя жену, которая ночами перешивала любимой дочери платья, поднимала петли на чулках. Ксения все больше отдалялась, уходила в свой мир: манекенщица, киноактриса. Вечерами за ней приезжали веселые компании в дорогих автомашинах. А дома частенько был выключен газ и электричество за неуплату. Почти все гонорары уходили на престижные туалеты.
Куприны теряли друзей. В 1923 году в Советскую Россию вернулся Алексей Толстой. 29 сентября 1930 года скончался Илья Репин. 5 августа 1932 года скончался Саша Черный. В этом же году в безотрадный мир больниц и убежищ, испытывая притеснения и настоящую нищету, ушел Константин Бальмонт. Куприн хотел умереть дома, в России. «Если люди, которые по глупости или отчаяния утверждают, что и без родины можно или что родина там, где ты счастлив... Мне нельзя без России. Я дошел до того, что не могу спокойно письма написать туда... Ком в горле!»30.
В Париже, на Северном вокзале, перед тем, как сесть в московский поезд, Куприн сказал:
«- Я готов пойти в Москву пешком...»31.
На его отъезд в печати откликнулись многие писатели старшего поколения, в том числе Н.А. Тэффи:
«- Е.М. Куприна увезла на родину своего больного старого мужа. Она выбивалась из сил, изыскивая средства спасти его от безысходной нищеты. Давно уже слышались крики - призывы! «SOS! Куприн погибает!» Для них собирали, вернее, выпрашивали гроши.
Всеми уважаемый, всеми без исключения любимый, знаменитейший русский писатель не мог больше работать, потому что был очень, очень болен. И он погибал, и все об этом знали...»32.
Через 6 лет, 25 августа 1938 года, находясь в России, в Петербурге, Куприн скончался на руках у своей жены, которая пережила его всего на пять лет. Она погибла во время блокады Ленинграда.
Лизанька, Лиза, Елизавета Морицовна, хрупкая, но удивительно самоотверженная и сильная духом женщина, была верной спутницей Куприна более, чем 30 лет. Точнее было бы сказать не спутницей или женой, а ангелом - хранителем, который всегда с тобой. Она была рядом все страшные годы военных и революционных потрясений; она была рядом с ним в последние минуты его жизни. Вся ее жизнь - это самопожертвование: она и в обычной жизни оставалась сестрой милосердия. Но это не значит, что ею двигало только чувство слепого долга, вовсе нет: она любила Куприна всем сердцем, но говорить об этом она старалась не часто, ведь так сложно выразить словами то, что чувствует сердце, «мысль изреченная есть ложь». Елизавета Морицовна не искала для себя лучшей доли, не жаловалась на трудности, на горечь своей судьбы, она просто была рядом, шла рука об руку по жизни, щедро отдавая свое душевное тепло, заботу, любовь, которая с годами становилась все крепче. Быть может, именно о такой любви Куприн устами генерала Аносова сказал в рассказе «Гранатовый браслет», что она «единая, всепрощающая, на все готовая, скромная и самоотверженная», которая бывает только раз в тысячу лет.