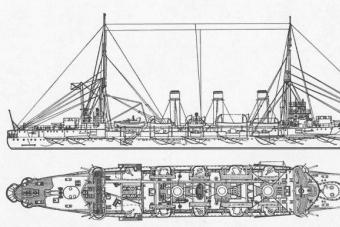Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) - великий писатель-гуманист, гениальный мыслитель, занимает большое место в истории русской и мировой философской мысли.
Основные произведения:
- «Бедные люди» (1845);
- «Записки из мертвого дома» (1860);
- «Униженные и оскорбленные» (1861);
- «Идиот» (1868);
- «Бесы» (1872);
- «Братья Карамазовы» (1880);
- «Преступление и наказание» (1886).
Начиная с 60-х гг. Федор Михайлович исповедовал идеи почвенничества, характерной для которого была религиозная ориентированность философского осмысления судеб русской истории. С такой точки зрения вся история человечества представала как история борьбы за торжество христианства. Роль России на этом пути и заключалась в том, что на долю русского народа выпала мессианская роль носителя высшей духовной истины. Русский народ призван спасти человечество через «новые формы жизни, искусства» благодаря широте его «нравственного захвата».
Три истины, пропагандирующиеся Достоевским:
- отдельные лица, даже лучшие люди, не имеют права насиловать общество во имя своего личного превосходства;
- общественная правда не выдумывается отдельными лицами, а живет во всенародном чувстве;
- эта правда имеет значение религиозное и обязательно связана с верой Христовой, с идеалом Христа. Достоевский был одним из самых типичных выразителей начал, призванных стать основанием нашейсвоеобразной национальной нравственной философии. Он находил искру Божию во всех людях, в том числе дурных и преступных. Идеалом великого мыслителя были миролюбие и кротость, любовь к идеальному и открытие образа Божия даже под покровом временной мерзости и позора.
Достоевский делал упор на «русское решение» социальных проблем, которое было связано с отрицанием революционных методов общественной борьбы, с разработкой темы об особом историческом призвании России, которое способно объединить народы на основе христианского братства.
Достоевский выступал как мыслитель экзистенциально-религиозного плана в вопросах понимания человека, он пытался через призму индивидуальной человеческой жизни решить «последние вопросы» бытия. Он рассматривал специфическую диалектику идеи и живой жизни, при этом идея для него обладает бытийно-энергийной силой, и в конце концов живая жизнь человека - это воплощение, реализация идеи.
В произведении «Братья Карамазовы» Достоевский словами своего Великого Инквизитора подчеркнул важную мысль: «Ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы», а потому «нет заботы беспредельнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться».
Достоевский утверждал, что быть личностью трудно, но еще более трудно быть счастливой личностью. Свобода и ответственность подлинной личности, которые требуют постоянного творчества и постоянных мук совести, страданий и переживаний, очень редко сочетаются со счастьем. Достоевский описывал неисследованные загадки и глубины человеческой души, пограничные ситуации, в которые попадает человек и в которых его личность терпит крах. Герои романов Федора Михайловича находятся в противоречии сами с собой, они ищут скрывающееся за внешней стороной христианской религии и окружающих их вещей и людей.
Еще по теме 68. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО:
- 68. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
- Проблема человека в философии Человек как проблема для самого себя
- три великих этических проблемы (нравственное мировоззрение Достоевского).
- Проблема теодицеи в нравственной философии Канта и Достоевского The problem of theodicy in Kant"s and Dostoevsky"s moral philosophy
ГЛАВА I
ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
При обозрении обширной литературы о Достоевском создается впечатление, что дело идет не об {одном} авторе-художнике, писавшем романы и повести, а о целом ряде философских выступлений {нескольких} авторов-мыслителей Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Ивана Карамазова, Великого Инквизитора и др. Для литературно-критической мысли творчество Достоевского распалось на ряд самостоятельных и противоречащих друг другу философем, представленных его героями. Среди них далеко не на первом месте фигурируют и философские воззрения самого автора. Голос самого Достоевского для одних сливается с голосами тех или иных из его героев, для других является своеобразным синтезом всех этих идеологических голосов, для третьих, наконец, он просто заглушается ими. С героями полемизируют, у героев учатся, их воззрения пытаются доразвить до законченной системы. Герой идеологически авторитетен и самостоятелен, он воспринимается как автор собственной полновесной идеологемы, а не как объект завершающего художественного видения Достоевского. Для сознания критиков прямая полновесная интенциональность слов героя размыкает монологическую плоскость романа и вызывает на непосредственный ответ, как если бы герой был не объектом авторского слова, а полноценным и полноправным носителем собственного слова.
Совершенно справедливо отмечает эту особенность литературы о Достоевском Б. М. Энгельгардт. "Разбираясь в русской критической литературе о произведениях Достоевского, - говорит он, - легко заметить, что, за немногими исключениями, она не подымается над духовным уровнем его любимых героев. Не она господствует над предстоящим материалом, но материал целиком владеет ею. Она все еще учится у Ивана Карамазова и Раскольникова, Ставрогина и Великого Инквизитора, запутываясь в тех противоречиях, в которых запутывались они, останавливаясь в недоумении перед неразрешенными ими проблемами и почтительно склоняясь перед их сложными и мучительными переживаниями".
Эту особенность критической литературы о Достоевском нельзя объяснить одной только методологической беспомощностью критической мысли и рассматривать как сплошное нарушение авторской художественной воли. Нет, она отвечает обычной установке воспринимающих произведения Достоевского, а эта установка в свою очередь, хотя далеко не адекватно, схватывает самую существенную структурную особенность этих художественных произведений.
{Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознании, подлинная полифония полноценных, голосов, действительно, является основною особенностью романов Достоевского}. Не множество судеб и жизней в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но именно {множественность равноправных сознании с их мирами} сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события. Главные герои Достоевского, действительно, в самом творческом замысле художника {не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного непосредственно значащего слова}. Слово героя поэтому вовсе не исчерпывается здесь обычными характеристическими и сюжетно-прагматическими функциями, но и не служит выражением собственной идеологической позиции автора (как у Байрона, например). Сознание героя дано как другое, {чужое} сознание, но в то же время оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым объектом авторского сознания.
Достоевский - творец {полифонического романа}. Он создал существенно новый романный жанр. Поэтому-то его творчество не укладывается ни в какие рамки, не подчиняется ни одной из тех историко-литературных схем, какие мы привыкли прилагать к явлениям европейского романа. В его произведениях появляется герой, голос которого построен так, как строится голос самого автора в романе обычного типа, а не голос его героя. Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя, как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев.
Отсюда следует, что обычные сюжетно-прагматические связи предметного или психологического порядка в мире Достоевского недостаточны: ведь эти связи предполагают объектность, опредмеченность героев в авторском замысле, они связывают и сочетают образы людей в единстве монологически воспринятого и понятого мира, а не множественность равноправных сознании с их мирами. Обычная сюжетная прагматика в романах Достоевского играет второстепенную роль и несет особые, а не обычные функции. Последние же скрепы, созидающие единство его романного мира, иного рода; основное событие, раскрываемое его романом, не поддается сюжетно-прагматическому истолкованию.
Далее, и самая установка рассказа - все равно дается ли он от автора или ведется рассказчиком или одним из героев - должна быть совершенно иной, чем в романах монологического типа. Та позиция, с которой ведется рассказ, строится изображение или дается осведомление, должна быть по-новому ориентирована по отношению к этому новому миру: миру полноправных субъектов, а не объектов. Сказовое, изобразительное и осведомительное слово должны выработать какое-то новое отношение к своему предмету.
Таким образом все элементы романной структуры у Достоевского глубоко своеобразны; все они определяются тем новым художественным заданием, которое только он сумел поставить и разрешить во всей его широте и глубине: заданием построить полифонический мир и разрушить сложившиеся формы европейского в основном {монологического} (или гомофонического) романа.
С точки зрения последовательно-монологического видения и понимания изображаемого мира и монологического канона построения романа мир Достоевского должен представляться хаосом, а построение его романов чудовищным конгломератом чужероднейших материалов и несовместимейших принципов оформления. Только в свете формулированного нами основного художественного задания Достоевского может стать понятной глубокая органичность, последовательность и цельность его поэтики.
Таков наш тезис. Прежде чем развивать его на материале произведений Достоевского, мы проследим, как преломлялась утверждаемая нами основная особенность его творчества в критической литературе о нем. Никакого хоть сколько-нибудь полного очерка литературы о Достоевском мы не собираемся здесь давать. Из новых работ о нем, русских и иностранных, мы остановимся лишь на немногих, именно на тех, которые ближе всего подошли к основной особенности Достоевского, как мы ее понимаем. Выбор, таким образом, производится с точки зрения нашего тезиса и, следовательно, субъективен. Но эта субъективность выбора в данном случае и неизбежна и правомерна: ведь мы даем здесь не исторический очерк и даже не обзор. Нам важно лишь ориентировать наш тезис, нашу точку зрения среди уже существующих в литературе точек зрения на творчество Достоевского. В процессе такой ориентации мы уясним отдельные моменты нашего тезиса.
Критическая литература о Достоевском до самого последнего времени была слишком непосредственным идеологическим откликом на голоса его героев, чтобы объективно воспринять художественные особенности его новой романной структуры. Более того, пытаясь теоретически разобраться в этом новом многоголосом мире, она не нашла иного пути, как монологизировать этот мир по обычному типу, т. е. воспринять произведение существенно новой художественной воли с точки зрения воли старой - и привычной. Одни, порабощенные самой содержательной стороной идеологических воззрений отдельных героев, пытались свести их в системно-монологическое целое, игнорируя существенную множественность неслиянных сознании, которая как раз и входила в творческий замысел художника. Другие, не поддавшиеся непосредственному идеологическому обаянию, превращали полноценные сознания героев в объектно воспринятые опредмеченные психики и воспринимали мир Достоевского как обычный мир европейского социально-психологического реалистического романа. Вместо события взаимодействия полноценных сознании в первом случае получался философский монолог, во втором - монологически понятый объективный мир, коррелятивный одному и единому авторскому сознанию.
Как увлеченное софилософствование с героями, так и объективно безучастный психологический или психопатологический анализ их одинаково не способны проникнуть в чисто художественную архитектонику произведений Достоевского. Увлеченность одних не способна на объективное, подлинно реалистическое видение мира чужих сознании, реализм других "мелко плавает". Вполне понятно, что как теми, так и другими чисто художественные проблемы или вовсе обходятся или трактуются лишь случайно и поверхностно.
Путь философской монологизации - основной путь критической литературы о Достоевском. По этому пути шли Розанов, Волынский, Мережковский, Шестов и др. Пытаясь втиснуть показанную художником множественность сознании в системно-монологические рамки единого мировоззрения, эти исследователи принуждены были прибегать или к антиномике или к диалектике. Из конкретных и цельных сознании героев (и самого автора) вылущивались идеологические тезисы, которые или располагались в динамический диалектический ряд или противоставлялись друг другу как не снимаемые абсолютные антиномии. Вместо взаимодействия нескольких неслиянных сознании подставлялось взаимоотношение идей, мыслей, положений, довлеющих одному сознанию.
И диалектика и антиномика, действительно, наличны в мире Достоевского. Мысль его героев, действительно, диалектична и иногда антиномична. Но все логические связи остаются в пределах отдельных сознании и не управляют событийными взаимоотношениями между ними. Мир Достоевского глубоко персоналистичен. Всякую мысль он воспринимает и изображает как позицию личности. Поэтому даже в пределах отдельных сознании диалектический или антиномический ряд - лишь абстрактный момент, неразрывно сплетенный с другими моментами цельного конкретного сознания. Через это воплощенное конкретное сознание, в живом голосе цельного человека логический ряд приобщается единству изображаемого события. Мысль, вовлеченная в событие, становится сама событийной и приобретает тот особый характер "идеи-чувства", "идеи-силы", который создает неповторимое своеобразие "идеи" в творческом мире Достоевского. Изъятая из событийного взаимодействия сознании и втиснутая в системно-монологический контекст, хотя бы и самый диалектический, идея неизбежно утрачивает это свое своеобразие и превращается в плохое философское утверждение. Поэтому-то все большие монографии о Достоевском, созданные на пути философской монологизации его творчества, так мало дают для понимания формулированной нами структурной особенности его художественного мира. Эта особенность, правда, породила все эти исследования, но в них, менее всего она достигла своего осознания.
Это осознание начинается там, где делаются попытки более объективного подхода к творчеству Достоевского, притом, не только к идеям самим по себе, а и к произведениям, как к художественному целому.
Впервые основную структурную особенность художественного мира Достоевского нащупал Вячеслав Иванов - правда, только нащупал. Реализм Достоевского он определяет как реализм, основанный не на познании (объектном), а на "проникновении". Утвердить чужое "я" не как объект, а как другой субъект - таков принцип мировоззрения Достоевского. Утвердить чужое "я" - "ты еси" - это и есть та задача, которую, на Иванову, должны разрешить герои Достоевского, чтобы преодолеть свой этический солипсизм, свое отъединенное "идеалистическое" сознание и превратить другого человека из тени в истинную реальность. В основе трагической катастрофы у Достоевского всегда лежит солипсическая отъединенность сознания героя, его замкнутость в своем собственном мире.
Таким образом, утверждение чужого сознания как полноправного субъекта, а не как объекта является этико-религиозным постулатом, определяющим {содержание} романа (катастрофа отъединенного сознания). Это принцип мировоззрения автора, с точки зрения которого он понимает мир своих героев, Иванов показывает, следовательно, лишь чисто тематическое преломление этого принципа в содержании романа и притом преимущественно негативное; ведь герои терпят крушение, ибо не могут до конца утвердить другого - "ты еси". Утверждение (и не утверждение) чужого "я" героем - тема произведений Достоевского.
Но эта тема вполне возможна и в романе чисто монологического типа и, действительно, неоднократно трактуется в нем. Как этико-религиозный постулат автора и как содержательная тема произведения, утверждение чужого сознания не создает еще новой формы, нового типа построения романа.
Иванов, к сожалению, не показал, как этот принцип мировоззрения Достоевского становится принципом художественного видения мира и художественного построения словесного целого - романа. Ведь только в этой форме, в форме принципа конкретного литературного построения, а не как этико-религиозный принцип отвлеченного мировоззрения, он существен для литературоведа. И только в этой форме он может быть объективно вскрыт на эмпирическом материале конкретных литературных произведений.
Но этого Вячеслав Иванов не сделал. В главе, посвященной "принципу формы", несмотря на ряд ценнейших наблюдений, он все же воспринимает роман Достоевского в пределах монологического типа. Радикальный художественный переворот, совершенный Достоевским, остался в своем существе не понятым. Данное Ивановым основное определение романа Достоевского, как "романа-трагедии", кажется нам глубоко неверным. Оно характерно как попытка свести новую художественную форму к уже знакомой художественной воле. В результате роман Достоевского оказывается каким-то художественным гибридом.
Таким образом, Вячеслав Иванов, найдя глубокое и верное определение для основного принципа Достоевского - утвердить чужое "я" не как объект, а как другой субъект, - монологизовал этот принцип, т. е. включил его в монологически формулированное авторское мировоззрение и воспринял лишь как содержательную тему изображенного с точки зрения монологического авторского сознания мира. Кроме того, он связал свою мысль с рядом прямых метафизических и этических утверждений, которые не поддаются никакой объективной проверке на самом материале произведений Достоевского. Художественная задача построения полифонического романа, впервые разрешенная Достоевским, осталась не вскрытой.
Сходно с Ивановым определяет основную особенность Достоевского и С. Аскольдов. Но и он остается в пределах монологизованного религиозно-этического мировоззрения Достоевского и монологически воспринятого содержания его произведений.
"Первый этический тезис Достоевского, - говорит Аскольдов, - есть нечто на первый взгляд наиболее формальное и, однако, в известном смысле наиболее важное. "Будь личностью", - говорит он нам всеми своими оценками и симпатиями". Личность же, по Аскольдову, отличается от характера, типа и темперамента, которые обычно служат предметом изображения в литературе, своей исключительной внутренней свободой и совершенной независимостью от внешней среды.
Таков, следовательно, принцип этического мировоззрения автора. От этого мировоззрения Аскольдов непосредственно переходит к содержанию романов Достоевского и показывает, как и благодаря чему герои Достоевского {в жизни} становятся личностями и проявляют себя как таковые. Так, личность неизбежно приходит в столкновение с внешней средой, прежде всего - во внешнее столкновение со всякого рода общепринятостью. Отсюда "скандал" - это первое и наиболее внешнее обнаружение пафоса личности - играет громадную роль в произведениях Достоевского. Более глубоким обнаружением пафоса личности в жизни является, по Аскольдову, преступление. "Преступление в романах Достоевского, - говорит он, - это жизненная постановка религиозно-этической проблемы. Наказание - это форма ее разрешения. Поэтому то и другое представляет основную тему творчества Достоевского... ".
Дело, таким образом, все время идет о способах обнаружения личности в самой жизни, а не о способах ее художественного видения и изображения в условиях определенной художественной конструкции - романа. Кроме того, и самое взаимоотношение между авторским мировоззрением и миром героев изображено неправильно. От пафоса личности в мировоззрении автора непосредственный переход к жизненному пафосу его героев и отсюда снова к монологическому выводу автора - таков типичный путь монологического романа романтического типа. Но менее всего это путь Достоевского.
"Достоевский, - говорит Аскольдов, - всеми своими художественными симпатиями и оценками провозглашает одно весьма важное положение: злодей, святой, обыкновенный грешник, доведшие до последней черты свое личное начало, имеют все же некоторую равную ценность именно в качестве личности, противостоящей мутным течениям все нивелирующей среды".
Такого рода провозглашение делал романтический роман, знавший сознание и идеологию лишь как пафос автора и как вывод автора, а героя лишь как осуществителя авторского пафоса или объекта авторского вывода. Именно романтики дают непосредственное выражение в самой изображаемой действительности своим художественным симпатиям и оценкам, объективируя и опредмечивая все то, во что они не могут вложить акцента собственного голоса.
Своеобразие Достоевского не в том, что он монологически провозглашал ценность личности (это делали до него и другие), а в том, что он умел ее объективно-художественно увидеть и показать как другую, чужую личность, не делая ее лирической,. не сливая с ней своего голоса и в то же время не низводя ее до опредмеченной психической действительности. Высокая оценка личности не впервые появилась в мировоззрении Достоевского, но художественный образ чужой личности (если принять этот термин Аскольдова) и многих неслиянных личностей, объединенных в единстве события, впервые в полной мере осуществлен в его романах.
Поразительная внутренняя самостоятельность героев Достоевского, отмеченная Аскольдовым, достигнута определенными художественными средствами: это прежде всего - свобода и самостоятельность их в самой структуре романа по отношению к автору, точнее - по отношению к обычным овнешняющим и завершающим авторским определениям. Это не значит, конечно, что герой выпадает из авторского замысла. Нет, эта самостоятельность и свобода его как раз и входят в авторский замысел. Этот замысел как бы предопределяет героя к свободе (относительной, конечно) и, как такого, вводит в строгий и рассчитанный план целого.
Относительная свобода героя не нарушает строгой определенности построения, как не нарушает строгой определенности математической формулы наличность в ее составе иррациональных или трансфинитных величин. Эта новая постановка героя достигается не выбором темы, отвлеченно взятой (хотя, конечно и она имеет значение), а всей совокупностью особых художественных приемов построения романа, впервые введенных Достоевским.
И Аскольдов, таким образом, монологизует художественный мир Достоевского, переносит доминанту этого мира в монологическую проповедь и этим низводит героев до простых парадигм этой проповеди. Аскольдов правильно понял, что основное у Достоевского - совершенно новое видение и изображение внутреннего человека, а следовательно и связующего внутренних людей события, но перенес свое объяснение этого в плоскость мировоззрения автора и в плоскость психологии героев.
Позднейшая статья Аскольдова "Психология характеров у Достоевского" также ограничивается анализом чисто характерологических особенностей его героев и не раскрывает принципов их художественного видения и изображения. Отличие личности от характера, типа и темперамента по-прежнему дано в психологической плоскости. Однако в этой статье Аскольдов гораздо ближе подходит к конкретному материалу романов, и потому она полна ценнейших наблюдений над отдельными художественными особенностями Достоевского. Но дальше отдельных наблюдений концепция Аскольдова не идет.
Нужно сказать, что формула Иванова - утвердить чужое "я" не как объект, а как другой субъект - "ты еси", несмотря на свою философскую отвлеченность, гораздо адекватнее формулы Аскольдова - "будь личностью". Ивановская формула переносит доминанту в чужую личность, кроме того, она более соответствует {внутренне-диалогическому} подходу Достоевского к изображаемому сознанию героя, между тем как формула Аскольдова монологичнее и переносит центр тяжести в осуществление собственной личности, что в плане художественного творчества - если бы постулат Достоевского был действительно таков - привело бы к субъективному романтическому типу построения романа.
С другой стороны - со стороны самого художественного построения романов Достоевского - подходит к той же основной особенности его Леонид Гроссман. Для Л. Гроссмана Достоевский прежде всего создатель нового своеобразнейшего вида романа. "Думается, - говорит он, - что в результате обзора его обширной творческой активности и всех разнообразных устремлений его духа приходится признать, что главное значение Достоевского не столько в философии, психологии или мистике,. сколько в создании новой, поистине гениальной страницы в истории европейского романа".
Основную особенность поэтики Достоевского Гроссман усматривает в нарушении органического единства материала,. требуемого обычным каноном, в соединении разнороднейших и несовместимейших элементов в единстве романной конструкции, в нарушении единой и цельной ткани повествования. "Таков, говорит он, - основной принцип его романической композиции: подчинить полярно несовместимые элементы повествования единству философского замысла и вихревому движению событий. Сочетать в одном художественном создании философские исповеди с уголовными приключениями, включить религиозную драму в фабулу бульварного рассказа, привести сквозь все перипетии авантюрного повествования к откровениям новой мистерии - вот какие художественные задания выступали перед Достоевским и вызывали его на сложную творческую работу. Вопреки исконным традициям эстетики, требующей соответствия между материалом и обработкой, предполагающей единство и, во всяком случае, однородность и родственность конструктивных элементов данного художественного создания, Достоевский сливает противоположности. Он бросает решительный вызов основному канону теории искусства. Его задача - преодолеть величайшую для художника трудность - создать из разнородных, разноценных и глубоко чуждых материалов единое и цельное художественное создание. Вот почему книга Иова, Откровение св. Иоанна, евангельские тексты, Слово Симеона Нового Богослова - все, что питает страницы его романов и сообщает тон тем или иным его главам, своеобразно сочетается здесь с газетой, анекдотом, пародией, уличной сценой, гротеском или даже памфлетом. Он смело бросает в свои тигеля все новые и новые элементы, зная и веря, что в разгаре его творческой работы сырые клочья будничной действительности, сенсация бульварных повествований и боговдохновенные страницы священных книг расплавятся, сольются в новый состав и примут глубокий отпечаток его личного стиля и тона".
Это великолепная описательная характеристика романной композиции Достоевского, но выводы из нее не сделаны, а те, какие сделаны, неправильны.
В самом деле, едва ли вихревое движение событий, как бы оно ни было мощно, и единство философского замысла, как бы он ни был глубок, достаточны для разрешения той сложнейшей и противоречивейшей композиционной задачи, которую так остро и наглядно сформулировал Гроссман. Что касается вихревого движения, то здесь с Достоевским может поспорить самый пошлый современный кинороман. Единство же философского замысла само по себе, как таковое, не может служить последней основой художественного единства.
Совершенно неправильно утверждение Гроссмана, что весь этот разнороднейший материал Достоевского принимает "глубокий отпечаток его личного стиля и тона". Если бы это было так, то чем бы отличался роман Достоевского от обычного типа романа, от той же "эпопеи флоберовской манеры, словно высеченной из одного куска, обточенной и монолитной"? Такой роман, как "Бювар и Пекюшэ", например, объединяет содержательно разнороднейший материал, но эта разнородность в самом построении романа не выступает и не может выступать резко, ибо подчинена проникающему ее насквозь единству личного стиля и тона, единству одного мира и одного сознания. Единство же романа Достоевского {над} личным стилем и {над} личным тоном, как их понимает роман до Достоевского. С точки зрения монологического понимания единства стиля (а пока существует только такое понимание) роман Достоевского {многостилен} или бесстилен, с точки зрения монологического понимания тона роман Достоевского {многоакцентен} и ценностно противоречив; противоречивые акценты скрещиваются в каждом слове его творений. Если бы разнороднейший материал Достоевского был бы развернут в едином мире, коррелятивном единому монологическому авторскому сознанию, то задача объединения несовместимого не была бы разрешена, и Достоевский был бы плохим, бесстильным художником; такой монологический мир "фатально распадется на свои составные, несхожие, взаимно чуждые части, и перед нами раскинутся неподвижно, нелепо и беспомощно страница из Библии рядом с заметкой из. дневника происшествий, или лакейская частушка рядом с шиллеровским дифирамбом радости".
На самом деле несовместимейшие элементы материала Достоевского распределены между несколькими мирами и несколькими полноправными сознаниями, они даны не в одном кругозоре, а в нескольких полных и равноценных кругозорах, и не материал непосредственно, но эти миры, эти сознания с их кругозорами сочетаются в высшее единство, так сказать, второго порядка, в единство полифонического романа. Мир частушки сочетается с миром шиллеровского дифирамба, кругозор Смердякова сочетается с кругозором Дмитрия и Ивана. Благодаря этой разномирности материал до конца может развить свое своеобразие и специфичность, не разрывая единства целого и не механизируя его.
В другой работе Гроссман ближе подходит именно к этой многоголосости романа Достоевского. В книге "Путь Достоевского" он выдвигает исключительное значение диалога в его творчестве. "Формы беседы или спора, говорит он здесь, - где различные точки зрения могут поочередно господствовать и отражать разнообразные оттенки противоположных исповеданий, особенно подходят к воплощению этой вечно слагающейся и никогда не застывающей философии. Перед таким художником и созерцателем образов, как Достоевский, в минуту его углубленных раздумий о смысле явлений и тайне мира должна была предстать эта форма философствования, в которой каждое мнение словно становится живым существом и излагается взволнованным человеческим голосом".
Этот диалогизм Гроссман склонен объяснять непреодоленным до конца противоречием в мировоззрении Достоевского. В его сознании рано столкнулись две могучие силы - гуманистический скепсис и вера - и ведут непрерывную борьбу за преобладание в его мировоззрении.
Можно не согласиться с этим объяснением, по существу выходящим за пределы объективно наличного материала, но самый факт множественности (в данном случае двойственности) неслиянных сознании указан верно. Правильно отмечена и персоналистичность восприятия идеи у Достоевского. Каждое мнение у него, действительно, становится живым существом и неотрешимо от воплощенного человеческого голоса. Введенное в системно-монологический контекст, оно перестает быть тем, что оно есть.
Если бы Гроссман связал композиционный принцип Достоевского - соединение чужероднейших и несовместимейших материалов - с множественностью не приведенных к одному идеологическому знаменателю центров - сознании, то он подошел бы вплотную к художественному ключу романов Достоевского - к полифонии.
Характерно понимание Гроссманом диалога у Достоевского как формы драматической и всякой диалогизации как непременно драматизации. Литература нового времени знает только драматический диалог и отчасти философский диалог, ослабленный до простой формы изложения, до педагогического приема. Между тем драматический диалог в драме и драматизованный диалог в повествовательных формах всегда обрамлен прочной и незыблемой монологической оправой. В драме эта монологическая оправа не находит, конечно, непосредственно словесного выражения, но именно в драме она особенно монолитна. Реплики драматического диалога не разрывают изображаемого мира, не делают его многопланным; напротив, чтобы быть подлинно драматическими, они нуждаются в монолитнейшем единстве этого мира. В драме он должен быть сделан из одного куска. Всякое ослабление этой монолитности приводит к ослаблению драматизма. Герои диалогически сходятся в едином кругозоре автора, режиссера, зрителя на четком фоне односоставного мира. Концепция драматического действия, разрешающего все диалогические противостояния, - чисто монологическая. Подлинная многопланность разрушила бы драму, ибо драматическое действие, опирающееся на единство мира, не могло бы уже связать и разрешить ее. В драме невозможно сочетание целостных кругозоров в надкругозорном единстве, ибо драматическое построение не дает опоры для такого единства. Поэтому в полифоническом романе Достоевского подлинно драматический диалог может играть лишь весьма второстепенную роль.
Существеннее утверждение Гроссмана, что романы Достоевского последнего периода являются мистериями. Мистерия действительно многопланна и до известной степени полифонична. Но эта многопланность и полифоничность мистерии чисто формальные, и самое построение мистерии не позволяет содержательно развернуться множественности сознании с их мирами.
Здесь с самого начала все предрешено, закрыто и завершено, хотя, правда, завершено не в одной плоскости.
В полифоническом романе Достоевского дело идет не об обычной диалогической форме развертывания материала в рамках монологического понимания на твердом фоне единого предметного мира. Нет, дело идет о последней диалогичности, т. е. о диалогичности последнего целого. Драматическое целое в этом смысле, как мы сказали, монологично; роман Достоевского диалогичен. Он строится не как целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие сознания, но как целое взаимодействия нескольких сознании, из которых ни одно не стало до конца объектом другого; это взаимодействие не дает созерцающему опоры для объективации всего события по обычному монологическому типу (сюжетно, лирически или познавательно) делает, следовательно, и созерцающего участником. Роман не только не дает никакой устойчивой опоры вне диалогического разрыва для третьего монологически объемлющего сознания, наоборот, все в нем строится так, чтобы сделать диалогическое противостояние безысходным. С точки зрения безучастного "третьего" не строится ни один элемент произведения. В самом романе этот "третий" никак не представлен. Для него нет ни композиционного, ни смыслового места. В этом не слабость автора, а его величайшая сила. Этим завоевывается новая авторская позиция, лежащая выше монологической позиции.
На множественность одинаково авторитетных идеологических позиций и на крайнюю гетерогенность материала указывает как на основную особенность романов Достоевского и Отто Каус в своей книге "Dostoewski und sein Schicksal". Ни один автор, по Каусу, не сосредоточивал на себе столько противоречивейших и взаимно исключающих друг друга понятий, суждений и оценок, как Достоевский; но самое поразительное то, что произведения Достоевского как будто бы оправдывают все эти противоречивейшие точки зрения: каждая из них, действительно, находит себе опору в романах Достоевского.
Вот как характеризует Каус эту исключительную многосторонность и многопланность Достоевского: "Dostoewski ist ein Hausherr, der die buntesten Gaste veitragt und eine noch so wild zusammengewurfelte Gesellschaft gleichzeitig in Spannung zu halten vermag. Wir konnen dem altmodischen Realisten die Bewunderung fur den Schilderer der Katorga, den Sanger der Petersburger Strassen und Platze und der tyranischen Wirklichkeiten nicht verwehren und dem Mystiker nicht verdenken, dass er die Gesellschaft Aljoschas, Iwan Karamasoffs - dem der liebhaftige Teufel in die Stube steigt, - des Fursten Myschkin aufsucht. Utopisten aller Schattirungen mussen an den Traumen des "lacherlichen Menschen", Werssiloffs oder Stawrogins ihre helle Freude haben und religios Gemuter sich am Kampf um Gott erbauen, den Sunder und Heilige in diesen Romanen fuhren. Gesundheit und Kratt, radikalster Pessimismus und gluhendster Erlosungsglaube, Lebensdurst und Todessehnsucht ringen in unentschiedenen Kampfe, Gewalt und Gute, Hochmut und aufopferende Demut, eine unubersehbare Lebensfulle, plastisch geschlossen in jedem Teile. Es braucht niemand seiner kritischen Gewissenhaftigkeit besondere Gewalt anzutun, um das letzte Wort des Dichters nach seinem Herzen zu deuten. Dostoewski ist so vielseitig und unberechenbar in seinen Eingebungen, sein Werk von Kraften und Absichten gespeist, die unuberbruckbare Gegensatze zu trennen scheinen".
Как же объясняет Каус эту особенность Достоевского? Каус утверждает, что мир Достоевского является чистейшим и подлиннейшим выражением духа капитализма. Те миры, те планы - социальные, культурные и идеологические, которые сталкиваются в творчестве Достоевского, раньше довлели себе, были органически замкнуты, упрочены и внутренне осмыслены в своей отдельности. Не было реальной, материальной плоскости для их существенного соприкосновения и взаимного проникновения. Капитализм уничтожил изоляцию этих миров, разрушил замкнутость и внутреннюю идеологическую самодостаточность этих социальных сфер. В своей всенивелирующей тенденции, не оставляющей никаких иных разделений, кроме разделения на пролетария и капиталиста, капитализм столкнул и сплел эти миры в своем противоречивом становящемся единстве. Эти миры еще не утратили своего индивидуального облика, выработанного веками, но они уже не могут довлеть себе. Их слепое сосуществование и их спокойное и уверенное идеологическое взаимное игнорирование друг друга кончились, и взаимная противоречивость их и в то же время их взаимная связанность раскрылись со всей ясностью. В каждом атоме жизни дрожит это противоречивое единство капиталистического мира и капиталистического сознания, не давая ничему успокоиться в своей изолированности, но в то же время ничего не разрешая.
Дух этого становящегося мира и нашел наиболее полное выражение в творчестве Достоевского. "Die grosse Wirkung Dostoewski in unserer Zeit und alle Unklarheiten und Unbestimmtheiten dieser Wirkung erklaren sich in diesem Grundzug seines Wesens und konnen auch bloss darin eine Rechtfertigung finden: Dostoewski ist der entschiedenste, konsequenteste, unerbittlichste Dichter des kapitalistischen Menschen. Sein Werk ist nicht die Totenklage, sondern das Wiegenlied unserer, der moderner von Gluthauch des Kapitalismus gezeugten Welt".
Объяснения Кауса во многом правильны. Действительно, полифонический роман мог осуществиться только в капиталистическую эпоху. Более того, самая благоприятная почва для него была именно в России, где капитализм наступил почти катастрофически и застал нетронутое многообразие социальных миров и групп, не ослабивших, как на Западе, своей индивидуальной замкнутности в процессе постепенного наступления капитализма. Здесь противоречивая сущность становящейся социальной жизни, не укладывающаяся в рамки уверенного и спокойно созерцающего монологического сознания, должна была проявиться особенно резко, а в то же время индивидуальность выведенных из своего идеологического равновесия и столкнувшихся миров должна была быть особенно полной и яркой. Этим создавались объективные предпосылки существенной многопланности и многоголосости полифонического романа.
Но объяснения Кауса оставляют самый объясняемый факт нераскрытым. Ведь дух капитализма здесь дан на языке искусства и в частности на языке особой разновидности романного жанра. Ведь прежде всего необходимо раскрыть конструктивные особенности этого многопланного романа, лишенного привычного монологического единства. Эту задачу Каус не разрешает. Верно указав самый факт многопланности и смысловой многоголосости, он переносит свои объяснения из плоскости романа непосредственно в плоскость действительности. Достоинство Кауса в том, что он воздерживается от монологизации этого мира, воздерживается от какой бы то ни было попытки объединения и примирения заключенных в нем противоречий; он принимает его многопланность и противоречивость как существенный момент самой конструкции и самого творческого замысла.
К другому моменту той же основной особенности Достоевского подошел В. Комарович. Анализируя этот роман, он вскрывает в нем пять обособленных сюжетов, связанных лишь весьма поверхностно фабулярной связью. Это заставляет его предположить какую-то иную связь по ту сторону сюжетного прагматизма. "Выхватывая... клочки действительности, доводя "эмпиризм" их до крайней степени, Достоевский ни на минуту не позволяет нам забыться радостным узнанием этой действительности (как Флобер или Толстой), но пугает, потому что именно выхватывает, вырывает все это из закономерной цепи реального; перенося эти клочки себе, Достоевский не переносит сюда закономерных связей нашего опыта: роман Достоевского замыкается в органическое единство не сюжетом".
Действительно, монологическое единство мира в романе Достоевского нарушено; но вырванные куски действительности вовсе не непосредственно сочетаются в единстве романа: эти куски довлеют целостному кругозору того или иного героя, осмыслены в плане одного или другого сознания. Если бы эти клоки действительности, лишенные прагматических связей, сочетались непосредственно, как эмоционально-лирически или символически созвучные, в единстве одного монологического кругозора, то перед нами был бы мир романтика, например, мир Гофмана, но вовсе не мир Достоевского.
Последнее внесюжетное единство романа Достоевского Комарович истолковывает монологически, даже сугубо монологически, хотя он и вводит аналогию с полифонией и с контрапунктическим сочетанием голосов фуги. Под влиянием монополистической эстетики Бродера Христиансена он понимает внесюжетное, внепрагматическое единство романа как динамическое единство волевого акта: "Телеологическое соподчинение прагматически разъединенных элементов (сюжетов) является, таким образом, началом художественного единства романа Достоевского. И в этом смысле он может быть уподоблен художественному целому в полифонической музыке: пять голосов фуги, последовательно вступающих и развивающихся в контрапунктическом созвучии, напоминают "голосоведение" романа Достоевского.
Такое уподобление - если оно верно - ведет к более обобщенному определению самого начала единства.
Как в музыке, так и в романе Достоевского осуществляется тот же закон единства, что и в нас самих, в человеческом "я", - закон целесообразной активности. В романе же "Подросток" этот принцип его единства совершенно адекватен тому, что в нем символически изображено: "любовь - ненависть" Версилова к Ахмаковой - символ трагических порывов индивидуальной воли к сверхличному; соответственно этому весь роман и построен по типу индивидуального волевого акта".
Основная ошибка Комаровича заключается в том, что он ищет непосредственного сочетания между отдельными элементами действительности или между отдельными сюжетными рядами, между тем как дело идет о сочетании полноценных сознании с их мирами. Поэтому вместо единства событий, в котором несколько полноправных участников, получается пустое единство индивидуального волевого акта. И полифония в этом смысле истолкована им совершенно неправильно. Сущность полифонии именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и, как такие, сочетаются в единстве высшего порядка, чем в гомофонии. Если уже говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли. Можно было бы сказать так: художественная воля полифонии есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию.
Единство мира Достоевского недопустимо сводить к индивидуальному эмоционально-волевому акцентному единству, как недопустимо сводить к нему и музыкальную полифонию. В результате такого сведения роман "Подросток" оказывается у Комаровича каким-то лирическим единством упрощенно-монологического типа, ибо сюжетные единства сочетаются по своим эмоционально-волевым акцентам, т. е. сочетаются по лирическому принципу.
Необходимо заметить, что и нами употребляемое сравнение романа Достоевского с полифонией имеет значение только образной аналогии, не больше. Образ полифонии и контрапункта указывает лишь на те новые проблемы, которые встают, когда построение романа выходит за пределы обычного монологического единства, подобно тому как в музыке новые проблемы встали при выходе за пределы одного голоса. Но материалы музыки и романа слишком различны, чтобы могла быть речь о чем-то большем, чем образная аналогия, чем простая метафора. Но эту метафору мы превращаем в термин "полифонический роман", так как не находим более подходящего обозначения. Не следует только забывать о метафорическом происхождении нашего термина.
Адекватнее всех основную особенность творчества Достоевского, как нам кажется, понял Б. М. Энгельгардт в своей работе "Идеологический роман Достоевского".
Энгельгардт исходит из социологического и культурно-исторического определения героя Достоевского. Герой Достоевского - оторвавшийся от культурной традиции, от почвы и от земли интеллигент-разночинец, представитель "случайного племени". Такой человек вступает в особые отношения к идее: он беззащитен перед нею и перед ее властью, ибо не укоренен в бытии и лишен культурной традиции. Он становится "человеком идеи", одержимым от идеи. Идея же становится в нем идеей-силой, вслевластно определяющей и уродующей его сознание и его жизнь. Идея ведет самостоятельную жизнь в сознании героя: живет собственно не он - живет идея, и романист дает не жизнеописание героя, а жизнеописание идеи в нем; историк "случайного племени" становится "историографом идеи". Доминантой образной характеристики героя является поэтому владеющая им идея вместо биографической доминанты обычного типа (как, например, у Толстого и у Тургенева). Отсюда вытекает жанровое определение романа Достоевского как "романа идеологического". Но это, однако, не обыкновенный идейный роман, роман с идеей. "Достоевский, - говорит Энгельгардт, - изображал жизнь идеи в индивидуальном и социальном сознании, ибо ее он считал определяющим фактором интеллигентного общества. Но это не надо понимать так, будто он писал идейные романы, повести с направлением и был тенденциозным художником, более философом, нежели поэтом. Он писал не романы с идеей, не философские романы во вкусе XVIII века, но романы об идее. Подобно тому как центральным объектом для других романистов могло служить приключение, анекдот, психологический тип, бытовая или историческая картина, для него таким объектом была "идея". Он культивировал и вознес на необычайную высоту совершенно особый тип романа, который в противоположность авантюрному, сентиментальному, психологическому или историческому может быть назван идеологическим. В этом смысле его творчество, несмотря на присущий ему полемизм, не уступало в объективности творчеству других великих художников слова: он сам был таким художником и ставил и решал в своих романах прежде и больше всего чисто художественные проблемы. Только материал у него был очень своеобразный: его героиней была идея".
Идея как предмет изображения и как доминанта в построении образов героев приводит к распадению романного мира на миры героев, организованные и оформленные владеющими ими идеями. Многопланность романа Достоевского со всей отчетливостью вскрыта Б. М. Энгельгардтом: "Принципом чисто художественной {ориентировки героя в окружающем} является та или иная форма его {идеологического отношения к миру}. Подобно тому как доминантой художественного изображения героя служит комплекс идей-сил, над ним господствующих, точно так же доминантой при изображении окружающей действительности является та точка зрения, с которой взирает на этот мир герой. Каждому герою мир дан в особом аспекте, соответственно которому и конструируется его изображение. У Достоевского нельзя найти так называемого объективного описания внешнего мира; в его романе, строго говоря, нет ни быта, ни городской, ни деревенской жизни, ни природы, но есть то среда, то почва, то земля, в зависимости от того, в каком плане созерцается все это действующими лицами. Благодаря этому возникает та многопланность действительности в художественном произведении, которая у преемников Достоевского зачастую приводит к своеобразному распаду бытия, так что действие романа протекает одновременно или последовательно в совершенно различных онтологических сферах".
В зависимости от характера идеи, управляющей сознанием и жизнью героя, Энгельгардт различает три плана, в которых может протекать действие романа. Первый план - это "среда". Здесь господствует механическая необходимость; здесь нет свободы, каждый акт жизненной воли является здесь естественным продуктом внешних условий. Второй план - "почва". Это - органическая система развивающегося народного духа. Наконец, третий план - "земля".
"Третье понятие: "земля" - одно из самых глубоких, какие мы только находим у Достоевского, - говорит об этом плане Энгельгардт. - Это та земля, которая от детей не рознится, та земля, которую целовал, плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленно клялся любить Алеша Карамазов, все вся природа, и люди, и звери, и птицы, - тот прекрасный сад, который взрастил Господь, взяв семена из миров иных и посеяв на сей земле.
Это высшая реальность и одновременно тот мир, где протекает земная жизнь духа, достигшего состояния истинной свободы... Это третье царство, - царство любви, а потому и полной свободы, царство вечной радости и веселья".
Таковы, по Энгельгардту, планы романа. Каждый элемент действительности (внешнего мира), каждое переживание и каждое действие непременно входят в один из этих трех планов. Основные темы романов Достоевского Энгельгардт также располагает по этим планам.
Как же связаны эти планы в единство романа? Каковы принципы их сочетания друг с другом?
Эти три плана и соответствующие им темы, рассматриваемые в отношении друг к другу, представляют, по Энгельгардту, отдельные {этапы, диалектического развития духа}. "В этом смысле, - говорит он, - они образуют {единый путь}, которым среди великих мучений и опасностей проходит ищущий в своем стремлении к безусловному утверждению бытия. И не трудно вскрыть субъективную значимость этого пути для самого Достоевского".
Такова концепция Энгельгардта. Она впервые отчетливо освещает существеннейшие структурные особенности произведений Достоевского, впервые пытается преодолеть одностороннюю и отвлеченную идейность их восприятия и оценки. Однако не все в этой концепции представляется нам правильным. И уже совсем неправильными кажутся нам те выводы, которые он делает в конце своей работы о творчестве Достоевского в его целом.
Б. M. Энгельгардт впервые дает верное определение постановки идеи в романе Достоевского. Идея здесь, действительно, не {принцип изображения} (как во всяком романе), не лейтмотив изображения и не вывод из него (как в идейном, философском романе), а {предмет изображения}. Принципом видения и понимания мира, его оформления в аспекте данной идеи, она является лишь для героев, но не для самого автора - Достоевского. Миры героев построены по обычному идейно-монологическому принципу, построены как бы ими самими. "Земля" также является лишь одним из миров, входящих в единство романа, одним из планов его. Пусть на ней и лежит определенный иерархически-высший акцент по сравнению с "почвой" и со "средой", - все же "земля" лишь идейный аспект таких героев, как Соня Мармеладова, как старец Зосима, как Алеша. Идеи героев, лежащие в основе этого плана романа, являются таким же предметом изображения, такими же "идеями-героинями", как и идеи Раскольникова, Ивана Карамазова и других. Они вовсе не становятся принципами изображения и построения всего романа в его целом, т. е. принципами самого автора как художника. Ведь в противном случае получился бы обычный философско-идейный роман. Иерархический акцент, лежащий на этих идеях, не превращает романа Достоевского в обычный монологический роман, в своей последней основе всегда одноакцентный. С точки зрения художественного построения романа эти идеи только равноправные участники его действия рядом с идеями Раскольникова, Ивана Карамазова и др. Более того, тон в построении целого как будто задают именно такие герои, как Раскольников и Иван Карамазов; поэтому-то так резко выделяются в романах Достоевского житийные тона в речах Хромоножки, в рассказах и речах странника Макара Долгорукова и, наконец, в "Житии Зосимы". Если бы авторский мир совпадал бы с планом земли, то романы были бы построены в соответствующем этому плану житийном стиле.
Итак, ни одна из идей героев - ни героев "отрицательных", ни "положительных" - не становится принципом авторского изображения и не конституирует романного мира в его целом. Это и ставит нас перед вопросом: как же объединяются миры героев с лежащими в их основе идеями в мир автора, в мир романа в его целом? На этот вопрос Энгельгардт дает неверный ответ; точнее, этот вопрос он обходит, отвечая в сущности на совсем другой вопрос.
В самом деле, взаимоотношения миров или планов романа - по Энгельгардту: среды, почвы и земли - в самом романе вовсе не даны как звенья единого диалектического ряда, как этапы пути становления единого духа. Ведь если бы, действительно, идеи в каждом отдельном романе - планы же романа определяются лежащими в их основе идеями - располагались как звенья единого диалектического ряда, то каждый роман являлся бы законченной философемой, построенной по диалектическому методу. Перед нами в лучшем случае был бы философский роман, роман с идеей (пусть и диалектической), в худшем философия в форме романа. Последнее звено диалектического ряда неизбежно оказалось бы авторским синтезом, снимающим предшествующие звенья как абстрактные и вполне преодоленные.
На самом деле это не так: ни в одном из романов Достоевского нет диалектического становления единого духа, вообще нет становления, нет роста совершенно в той же степени, как их нет и в трагедии (в этом смысле аналогия романов Достоевского с трагедией правильна). В каждом романе дано не снятое диалектически противостояние многих сознаний, не сливающихся в единство становящегося духа, как не сливаются духи и души в формально полифоническом дантовском мире. В лучшем случае они могли бы, как в дантовском мире, образовать, не теряя своей индивидуальности и не сливаясь, а сочетаясь, статическую фигуру, как бы застывшее событие, подобно дантовскому образу креста (души крестоносцев), орла (души императоров) или мистической розы (души блаженных). В пределах самого романа не развивается, не становится и дух автора, но, как в дантовском мире, или созерцает, или становится одним из участников. В пределах романа миры героев вступают в событийные взаимоотношения друг с другом, но эти взаимоотношения, как мы уже говорили, менее всего можно сводить на отношения тезы, антитезы и синтеза.
Но и само художественное творчество Достоевского в его целом тоже не может быть понято как диалектическое становление духа. Ибо путь его творчества есть художественная эволюция его романа, связанная, правда, с идейной эволюцией, но нерастворимая в ней. О диалектическом становлении духа, проходящем через этапы среды, почвы и земли, можно гадать лишь за пределами художественного творчества Достоевского. Романы его как художественные единства не изображают и не выражают диалектического становления духа.
Энгельгардт в конце концов, так же как и его предшественники монологизуют мир Достоевского, сводит его к философскому монологу, развивающемуся диалектически. Гегелиански понятый единый диалектически становящийся дух ничего, кроме философского монолога, породить не может. Менее всего на почве монистического идеализма может расцвесть множественность неслиянных сознаний. В этом смысле единый становящийся дух, даже как образ, органически чужд Достоевскому. Мир Достоевского глубоко {плюралистичен}. Если уже искать для него образ, к которому как бы тяготеет весь этот мир, образ в духе мировоззрения самого Достоевского, то таким является церковь как общение неслиянных душ, где сойдутся и грешники, и праведники; или, может быть, образ дантовского мира, где многопланность переносится в вечность, где есть нераскаянные и раскаявшиеся, осужденные и спасенные. Такой образ - в стиле самого Достоевского, точнее - его идеологии, между тем как образ единого духа глубоко чужд ему.
Но и образ церкви остается только образом, ничего не объясняющим в самой структуре романа. Решенная романом художественная задача по существу независима от того вторично-идеологического преломления, которым она, может быть, сопровождалась в сознании Достоевского. Конкретные художественные связи планов романа, их сочетание в единство произведения должны быть объяснены и показаны на материале самого романа, и "гегелевский дух" и "церковь" одинаково уводят от этой прямой задачи.
Если же мы поставим вопрос о тех внехудожественных причинах и факторах, которые сделали возможным построение полифонического романа, то и здесь менее всего придется обращаться к фактам субъективного порядка, как бы глубоки они ни были. Если бы многопланность и противоречивость была дана Достоевскому или воспринималась им только как факт личной жизни, как многопланность и противоречивость духа - своего и чужого,. - то Достоевский был бы романтиком и создал бы монологический роман о противоречивом становлении человеческого духа, действительно, отвечающий гегелианской концепции. Но на самом деле многопланность и противоречивость Достоевский находил и умел воспринять не в духе, а в объективном социальном мире. В этом социальном мире планы были не этапами, а {станами}, противоречивые отношения между ними - не путем личности, восходящим или нисходящим, а {состоянием общества}. Многопланность и противоречивость социальной действительности была дана как объективный факт эпохи.
Сама эпоха сделала возможным полифонический роман. Достоевский был {субъективно} причастен этой противоречивой многопланности своего времени, он менял станы, переходил из одного в другой, и в этом отношении сосуществовавшие в объективной социальной жизни планы для него были этапами его жизненного пути и его духовного становления. Этот личный опыт был глубок, но Достоевский не дал ему непосредственного монологического выражения в своем творчестве. Этот опыт лишь помог ему глубже понять сосуществующие экстенсивно развернутые противоречия, противоречия между людьми, а не между идеями в одном сознании. Таким образом объективные противоречия эпохи определили творчество Достоевского не в плоскости их личного изживания в истории его духа, а в плоскости их объективного видения как сосуществующих одновременно сил (правда, видения, углубленного личным переживанием).
Здесь мы подходим к одной очень важной особенности творческого видения Достоевского, особенности или совершенно не понятой или недооцененной в литературе о нем. Недооценка этой особенности привела к ложным выводам и Энгельгардта. Основной категорией художественного видения Достоевского было не становление, а {сосуществование и взаимодействие}. Он видел и мыслил свой мир по преимуществу в пространстве, а не во времени. Отсюда и его глубокая тяга к драматической форме. Весь доступный ему смысловой материал и материал действительности он стремится организовать в одном времени в форме драматического сопоставления, развернуть экстенсивно. Такой художник, как, например, Гете, органически тяготеет к становящемуся ряду. Все сосуществующие противоречия он стремится воспринять как разные этапы некоторого единого развития, в каждом явлении настоящего увидеть след прошлого, вершину современности или тенденцию будущего; вследствие этого ничто не располагалось для него в одной экстенсивной плоскости. Такова, во всяком случае, была основная тенденция его видения и понимания мира.
Достоевский в противоположность Гете самые этапы стремился воспринять в их {одновременности}, драматически {сопоставить} и {противопоставить} их, а не вытянуть в становящийся ряд. Разобраться в мире значило для него помыслить все его содержания как одновременные и {угадать их взаимоотношения в разрезе одного момента}.
Это упорнейшее стремление его видеть все как сосуществующее, воспринимать и показывать все рядом и одновременно, как бы в пространстве, а не во времени, приводит его к тому, что даже внутренние противоречия и внутренние этапы развития одного человека он драматизует в пространстве, заставляя героев беседовать со своим двойником, с чертом, со своим alter ego, со своей карикатурой (Иван и черт, Иван и Смердяков, Раскольников и Свидригайлов и т. п.). Обычное у Достоевского явление парных героев объясняется этой же его особенностью. Можно прямо сказать, что из каждого противоречия внутри одного человека Достоевский стремится сделать двух людей, чтобы драматизовать это противоречие и развернуть его экстенсивно. Эта особенность находит свое внешнее выражение и в пристрастии Достоевского к массовым сценам, в его стремлении сосредоточить в одном месте и в одно время, часто вопреки прагматическому правдоподобию, как можно больше лиц и как можно больше тем, т. е. сосредоточить в одном миге возможно большее качественное многообразие. Отсюда же и стремление Достоевского следовать в романе драматическому принципу единства времени. Отсюда же катастрофическая быстрота действия, "вихревое движение", динамика Достоевского. Динамика и быстрота здесь (как, впрочем, и всюду) не торжество времени, а преодоление его, ибо быстрота единственный способ преодолеть время во времени.
Возможность одновременного сосуществования, возможность быть рядом или друг против друга является для Достоевского как бы критерием отбора существенного от несущественного. Только то, что может быть осмысленно дано одновременно, что может быть осмысленно связано между собою в одном времени, - только то существенно и входит в мир Достоевского; оно может быть перенесено и в вечность, ибо в вечности, по Достоевскому, все одновременно, все сосуществует. То же, что имеет смысл лишь как "раньше" или как "позже", что довлеет своему моменту, что оправдано лишь как прошлое или как будущее, или как настоящее в отношении к прошлому и будущему, то для него не существенно и не входит в его мир. Поэтому и герои его ничего не вспоминают, у них нет биографии в смысле прошлого и вполне пережитого. Они помнят из своего прошлого только то, что для них не перестало быть настоящим и переживается ими как настоящее: неискупленный грех, преступление, непрощенная обида. Только такие факты биографии героев вводит Достоевский в рамки своих романов, ибо они согласны с его принципом одновременности. Поэтому в романе Достоевского нет причинности, нет генезиса, нет объяснений из прошлого, из влияний среды, воспитания и пр. Каждый поступок героя весь в настоящем и в этом отношении не предопределен; он мыслится и изображается автором как свободный.
Характеризуемая нами особенность Достоевского не есть, конечно, особенность его мировоззрения в обычном смысле слова - это особенность его художественного восприятия мира: только в категории сосуществования он умел его видеть и изображать. Но, конечно, эта особенность должна была отразиться и на его отвлеченном мировоззрении. И в нем мы замечаем аналогичные явления: в мышлении Достоевского нет генетических и каузальных категорий. Он постоянно полемизирует, и полемизирует с какой-то органической враждебностью, с теорией среды, в какой бы форме она ни проявлялась (например, в адвокатских оправданиях средой); он почти никогда не апеллирует к истории как таковой и всякий социальный и политический вопрос трактует в плане современности; и это объясняется не только его положением журналиста, требующим трактовки всего в разрезе современности; напротив, мы думаем, что пристрастие Достоевского к журналистике и его любовь к газете, его глубокое и тонкое понимание газетного листа как живого отражения противоречивой социальной современности в разрезе одного дня, где рядом и друг против друга экстенсивно развертывается многообразнейший и противоречивейший материал, объясняется именно основной особенностью его художественного видения. Наконец, в плане отвлеченного мировоззрения эта особенность проявилась в эсхатологизме Достоевского - политическом и религиозном, в его тенденции приближать концы, нащупывать их уже в настоящем, угадывать будущее как уже наличное в борьбе сосуществующих сил.
Исключительная художественная способность Достоевского видеть все в разрезе сосуществования и взаимодействия является его величайшей силой, но и величайшей слабостью. Она делала его слепым и глухим к очень многому и существенному; многие стороны действительности не могли войти в его художественный кругозор. Но, с другой стороны, эта способность до чрезвычайности обостряла его восприятие в разрезе данного мгновения и позволяла увидеть многое и разнообразное там, где другие видели одно и одинаковое. Там, где видели одну мысль, он умел найти и нащупать две мысли, раздвоение; там, где видели одно качество, он вскрывал в нем наличность и другого, противоположного качества. Все, что казалось простым, в его мире стало сложным и многосоставным. В каждом голосе он умел слышать два спорящих голоса; в каждом выражении - надлом и готовность тотчас же перейти в другое, противоположное выражение; в каждом жесте он улавливал уверенность и неуверенность одновременно; он воспринимал глубокую двусмысленность и многосмысленность каждого явления. Но все эти противоречия и раздвоенности не становились диалектическими, не приводились в движение по временному пути, по становящемуся ряду, но развертывались в одной плоскости как рядом стоящие и противостоящие, как согласные, но не сливающиеся, или как безысходно противоречивые, как вечная гармония неслиянных голосов или как их неумолчный и безысходный спор. Видение Достоевского было замкнуто в этом мгновении раскрывшегося многообразия и оставалось в нем, организуя и оформляя это многообразие в разрезе данного мгновения.
Эта особая одаренность Достоевского слышать и понимать все голоса сразу и одновременно, равную которой можно найти только у Данте, и позволила ему создать полифонический роман. Объективная сложность, противоречивость и многоголосость эпохи Достоевского, положение разночинца и социального скитальца, глубочайшая биографическая и внутренняя причастность объективной многопланности жизни и, наконец,. дар видеть мир в категории взаимодействия и сосуществования, - все это образовало ту почву, на которой вырос полифонический роман Достоевского.
Итак, мир Достоевского - художественно организованное сосуществование и взаимодействие духовного многообразия, а не этапы становления единого духа. Поэтому и миры героев, планы романа, несмотря на их различную иерархическую акцентуацию, в самом построении романа лежат рядом в плоскости сосуществования (как и миры Данте) и взаимодействия (чего нет в формальной полифонии Данте), а не друг за другом как этапы становления. Но это не значит, конечно, что в мире Достоевского господствует дурная логическая безысходность, недодуманность и дурная субъективная противоречивость. Нет, мир Достоевского по-своему так же закончен и закруглен, как и дантовский мир. Но тщетно искать в нем {системно-монологическую}, хотя бы и диалектическую, {философскую} завершенность, и не потому, что она не удалась автору, но потому, что она не входила в его замыслы.
Что же заставило Энгельгардта искать в произведениях Достоевского "отдельные звенья сложного философского построения, выражающего историю постепенного становления человеческого духа", т. е. вступить на проторенный путь философской монолигизации его творчества?
Нам кажется, что основная ошибка была сделана Энгельгардтом в начале пути при определении "идеологического романа" Достоевского. Идея, как предмет изображения, занимает громадное место в творчестве Достоевского, но все же не она героиня его романов. Его героем был человек, и изображал он в конце концов не идею в человеке, а, говоря его собственными словами, - "человека в человеке". Идея же была для него или пробным камнем для испытания человека в человеке, или формой его обнаружения, или, наконец, - и это главное - тем medium"oм, той средой, в которой раскрывается человеческое сознание в своей глубочайшей сущности.
Энгельгардт недооценивает глубокого персонализма Достоевского. "Идей в себе" в платоновском смысле или "идеального бытия" в смысле феноменологов Достоевский не знает, не созерцает, не изображает. Для Достоевского не существует идеи, мысли, положения, которые были бы ничьими - были бы "в себе". И "истину в себе" он представляет в духе христианской идеологии, как воплощенную в Христе, т. е. представляет ее как личность, вступающую во взаимоотношения с другими личностями.
Поэтому не жизнь идеи в одиноком сознании и не взаимоотношения идей, а взаимодействие сознаний в medium"e идей (но не только идей) изображал Достоевский. А так как сознание в мире Достоевского дано не на пути своего становления и роста, т. е. не исторически, а рядом с другими сознаниями, то оно и не может сосредоточиться на себе и на своей идее, на ее имманентном логическом развитии и втягивается во взаимодействие с другими сознаниями. Сознание у Достоевского никогда не довлеет себе, но находится в напряженном отношении к другому сознанию. Каждое переживание, каждая мысль героя внутренне диалогичны, полемически окрашены, полны противоборства, или, наоборот, открыты чужому наитию, во всяком случае не сосредоточены просто на своем предмете, но сопровождаются вечной оглядкой на другого человека. Можно сказать, что Достоевский в художественной форме дает как бы социологию сознаний, правда, на идеалистической основе, на идеологически чуждом материале и лишь в плоскости сосуществования. Но, несмотря на эти отрицательные стороны, Достоевский как художник подымается до объективного видения жизни сознаний и форм их живого сосуществования и потому дает ценный материал и для социолога.
Термин "идеологический роман" представляется нам поэтому не адекватным и уводящим от подлинного художественного задания Достоевского.
Таким образом, и Энгельгардт не угадал до конца художественной воли Достоевского; отметив ряд существеннейших моментов ее, он эту волю в целом истолковывает как философско-монологическую волю, превращая полифонию сосуществующих сознаний в гомофоническое становление одного сознания.
То, что в европейском и русском романе до Достоевского было последним целым, - монологический единый мир авторского сознания, - в романе Достоевского становится частью, элементом целого; то, что было действительностью, становится здесь одним из аспектов действительности; то, что связывало целое, - сюжетно-прагматический ряд и личный стиль и тон, становится здесь подчиненным моментом. Появляются новые принципы художественного сочетания элементов и построения целого, появляется - говоря метафорически - романный контрапункт.
Идеологическое наполнение этого нового художественного мира чуждо и неприемлемо (и оно не ново), как неприемлемо идеологическое наполнение байроновской поэмы или дантовского космоса; но построение этого мира, завоеванное, правда, в неразрывной связи с этой наполняющей его идеологией и породившей его эпохой, все же остается, когда эпоха со своими социальными мирами и со своими идеологиями уже ушла. Остается, - как остаются окружающие нас памятники искусства - не только как документ, но и как образец.
В настоящее время роман Достоевского является, может быть, самым влиятельным образцом не только в России, где под его влиянием в большей или меньшей степени находится вся новая проза, но и на Западе. За ним, как за художником, следуют люди с различнейшими идеологиями, часто глубоко враждебными идеологии самого Достоевского: порабощает его художественная воля. Но сознание критиков и исследователей до сих пор порабощает идеология. Художественная воля не достигает отчетливого теоретического осознания. Кажется, что каждый, входящий в лабиринт полифонического романа, не может найти в нем дороги и за отдельными голосами не слышит целого. Часто не схватываются даже смутные очертания целого; художественные же принципы сочетания голосов вовсе не улавливаются ухом. Каждый по-своему толкует последнее слово Достоевского, но все одинаково толкуют его как {одно} слово, {один} голос, {один} акцент, а в этом как раз коренная ошибка. Надсловесное, надголосое, надакцентное единство полифонического романа остается нераскрытым.
100 р бонус за первый заказ
Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line
Узнать цену
Величие Достоевского состоит в том, что, даже выступая в качестве религиозного философа-мыслителя, он никогда не остается во власти отвлеченных идей, не предлагает читателю вместе с ним вступить в область веры, откровения и таинств. Ему не дает покоя зло, царящее в мире. Ему часто приходится вступать в спор с самим собой.
Тогда нам нужно обратиться к последнему его роману, роману-итогу, к "Братьям Карамазовым", и к публицистическому выступлению, к его знаменитой речи о Пушкине, предсмертной его исповеди перед читателями. Публикация романа была закончена в одиннадцатой книжке журнала "Русский вестник" за 1880 год, а речь о Пушкине прочитана 8 июня, т.е. еще до того, как печатание романа завершилось, и за семь месяцев до смерти! Он словно торопился высказать самое заветное, пережитое, значительное, как будто предчувствовал близкую гибель.
Речь о Пушкине похожа на сжатый конспект его романов. Говоря о любимейшем своем поэте, перед которым он преклонялся, Достоевский нередко говорил о самом себе, о том, что его особенно волновало, что было ему дорого и близко, что задавало мучительные вопросы его совести, над чем он размышлял всю свою жизнь. Он получил столько оваций, столько бурных проявлений восторгов сочувственной аудитории, сколько ему никогда не приходилось испытать на протяжении своего долгого труженического пути писателя-романиста.
Дело было не только в том, что он говорил в этот торжественный день, а как это было сказано им. Даже в своем публицистическом выступлении Достоевский проявил себя великим художником. Поэтому речь о Пушкине очень важна для понимания значения формы в творчестве этого мастера - вопрос, как мы с вами могли уже убедиться, чрезвычайно важный в разговоре о Достоевском. Ведь это не громада его романов, где приемы организации художественной мысли, художественной идеи остаются, да и, по-видимому, навсегда останутся тайной. Это краткие, сжатые пределы повествования (сам Достоевский определил его жанр как "очерк". Все обозримо, все отчетливо выявлено. Здесь говорит блестящий мастер, знающий секреты воздействия на чувство и разум своих слушателей или читателей, искусно пускающий в ход приемы опытного ритора.
Но, чтобы понять эту малую форму и механизм ее воздействия, нужно обратиться к большой - к роману "Братья Карамазовы". В нем мы найдем "заготовку" будущей речи. Причем, самое замечательное, что это тоже речь - речь защитника Дмитрия Карамазова, адвоката Фетюковича, опытнейшего и красноречивого судебного деятеля. Она отчетливо распадается на две части, контрастные по отношению друг к другу. Вот как об этом пишет сам автор романа: "Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно... Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон и даже прием свой, и разом возвысился до патетического, а зала как будто ждала того и вся затрепетала от восторга". Точно так же построена и речь Достоевского, и реакция слушателей оказалась та же, что вполне естественно, так как это выдающееся произведение искусства и выразительнейшая, "анафемская форма", как сказал бы один из персонажей Чехова, рассуждая тоже об адвокате, умевшем играть на нервах слушателей, "как на балалайке" (рассказ "Сильные ощущения").
Речь о Пушкине, как и речь литературного героя, состоит из 2-х частей. 1-ю можно было бы определить как жанр литературно-критического обзора творческого пути Пушкина. Вторая же часть - это бурный кульминационный порыв, взрыв патетики и одушевления: раздумья о русском народе, о русской душе, о будущем России в семье европейских народов и народов мира.
Начав свой обзор с "русского скитальца", образа, открытого впервые Пушкиным и надолго закрепившегося в русской литературе, Достоевский переходит затем к "типу красоты положительной", к Татьяне в "Евгении Онегине". Ему самому так и не удалось найти в собственном творчестве "положительно прекрасного человека". Прежде он видел его в мистере Пиквике Диккенса ("Посмертные Записки Пиквикского клуба") и в Дон Кихоте Сервантеса, попытался представить его в образе князя Мышкина ("Идиот"), и открыл, наконец, в пушкинской героине, в этом идеале нравственности, самопожертвования и самоотречения.
Следующий подраздел первой части - острая критика действительности: от возвышенного идеала, воплотившегося в русской женщине, Достоевский уходит в катакомбы ужасной жизни, с ее неизбывным горем и страданиями. Он ставит на этот раз под сомнение идею божественной гармонии мира, то, что мы уже определяли как его мысль о нравственной и социальной неустроенности действительности, враждебной человеку. Какое может быть божественное предначертание, если жизнь устроена так, что похожа на шутку дьявола, задумавшего посмеяться над людьми, а местопребывание человека в ней - на камеру самых изощренных пыток?
Толстой очень точно заметил, что Достоевский умер в момент напряженнейшей внутренней борьбы. Она с наибольшей силой отразилась в кульминации его последнего романа, совпав с кульминацией его философских и художественных исканий, - в главе "Бунт" пятой книги "Братьев Карамазовых". Иван рассказывает Алеше две истории о детях: о пятилетней девочке с ее "слезками, обращенными к боженьке" (ее истязают родители, почтенная чиновничья семья), и о мальчике, затравленном псами на глазах у матери за то, что он, играя, зашиб ногу любимой гончей генерала. Иван отрицает идею всепрощения: "Не хочу я, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами!" Алеша в первый момент называет это "бунтом", бунтом против Бога. Тогда Иван ставит перед ним вопрос, переходя от реальности в область фантастики и предположений. Он говорит о строительстве "здания судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание". Согласится ли Алеша быть архитектором на этих условиях, и могут ли люди "принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?" Именно этот драматический фрагмент текста романа слово в слово (с небольшими вариативными отклонениями) будет повторен в речи о Пушкине! Достоевский не забывал своих находок, и в момент разговора о жертвенности пушкинской героини, о том, что она не может принести боль и горе другому человеку, использовал мощный кульминационный всплеск, некогда созданный им.
Заключительная часть речи на еще более высшей волне эмоционального напряжения формулирует мысль о "всечеловечности" (или "всемирности") русского народа, русского характера, о том, что русской душе предстоит изречь "слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону". Имея перед глазами нищую, несчастную русскую землю, он не об экономической славе говорил, а о "братстве людей и о том, что ко всемирному, к всечеловечески-братскому единению сердце русское... изо всех народов наиболее предназначено".
Речь о Пушкине, таким образом, представляет собой целостное художественное высказывание, тщательно продуманное и выразительно выполненное именно как произведение искусства. Романист дает себя знать в публицистическом очерке: он здесь такой же мастер, как и в своих беллетристических произведениях.
Итак, говоря о системе идей Достоевского, мы невольно - и уже давно - стали говорить о его поэтике, о скрытых законах, по которым живет художественная ткань его произведений: создаваемые им характеры, сюжетные построения, композиционная структура. И это естественно: ведь он мыслит "идеями-чувствами", которые могут быть высказаны только в художественной форме, как Пушкин, признававшийся, что нередко ловит себя том, что даже думает стихами.
Одним из капитальнейших вкладов в исследование проблем поэтики Достоевского является работа Вячеслава Иванова "Достоевский и роман-трагедия", опубликованная в 1916 году. Ее положения заключались в следующем: 1)объект изображения (обычное явление прозы) становится субъектом; 2)Достоевский демонстрирует отъединенность сознания героя, это свой замкнутый в себе собственный мир; 3)романам Достоевского свойственен катарсис, важнейшая черта трагедии; 4)романная форма, созданная Достоевским, служит разрушению романа как определенного литературного жанра.
Из этих четырех тезисов только последний вызывает сомнения: Достоевский-романист, разумеется, не разрушает роман, а создает свою романную форму.
Первые же два тезиса - третий не нов, его когда-то высказал еще Белинский, - оказались наиболее востребованными. Они были положены в основу книги М. Бахтина "Проблемы поэтики Достоевского", выдержавшей несколько изданий (впервые книга вышла еще в 1927 году с предисловием тогдашнего наркома просвещения А.В. Луначарского).
Автор книги определяет роман Достоевского как "полифонический" роман, заимствуя термин (полифония - это многоголосие) из музыкознания. Он отмечает у Ф. Достоевского "множественность самостоятельных и неслиянных голосов сознаний... Не множественность характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единстве некоторого события".
Другой тезис М. Бахтина заключается в утверждении диалогичности системы Достоевского, когда один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается диалог, который преодолевает их замкнутость и односторонность.
Достоевский также широко использует эффект двойничества. Этот прием не открыт им, он был разработан еще немецкими романтиками (вспомним "Эликсир сатаны" Гофмана). Суть двойничества не в раздвоении личности (фаустовское: "Ах, две души живут в одной больной груди моей!"), а в отражении одного в Другом. Происходит увеличение, наращивание смысла: Раскольников - Свидригайлов ("Преступление и наказание"); Верховенский - Ставрогин ("Бесы"); Федор Павлович, Иван, Дмитрий Карамазовы, Смердяков ("Братья Карамазовы") и т.п. В последнее время утверждается, что двойничество связано не только так называемыми отрицательными персонажами, но и с положительными: Горшков - Макар Девушкин в "Бедных Людях".
В концепции М. Бахтина, однако, есть немало не доказанных и просто недоказуемых положений, откровенных условностей. Что такое "голоса сознаний", да еще противополагаемые характерам? или "идеологический роман": ведь художник, по признанию Достоевского, мыслит "идеями-чувствами", а не идеологемами? или каким чудом в произведениях Достоевского исчезает автор, а вместе с ним "свет единого авторского сознания", если это не мистификация творческого процесса писателя? То, чему Достоевский придавал такое значение: своеобразие художественной системы, которая способна вызвать ответную реакцию воспринимающего, здесь остается в тени. Между тем в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей рассматриваются архитектоника произведений Достоевского, особенности его сюжетных построений, обращается внимание на повторения, своеобразные "рифмы" ситуаций, на центростремительное движение сюжета, когда при обилии событий постоянна сосредоточенность на определенных духовных сущностях, отмечается пульсирующий ритм повествования, идущего от одной кульминации к другой волнами эмоциональной энергии, структурная целостность отдельных фрагментов текста и т.п. Можно высказать предположение, что именно на этих путях возникнут новые открытия после того, как достоевсковедение переболеет "голосами сознаний".
В мировоззрении Ф. М. Достоевского нравственные проблемы свободы воли, своеволия человека занимают центральное место. Глубина их постановки, беспощадный реализм, с каким писатель поднимал «больные» вопросы своего времени, ставят Достоевского в один ряд с его величайшими современниками.
Романы Достоевского - это эксперименты в поисках божественного стержня в человеке. Их герои – это не просто образы русских людей, но и воплощение религиозно-мистического характера русской культуры. «Если с этой точки зрения мы вчитаемся глубже в произведения Достоевского, то заметим, что сюжетные связи его образов равнозначны связям идей, которые он воплощает в этих образах. Не будет преувеличением определить творчество Достоевского как философскую систему в образах, которая покоится на широкой социально-психологической базе и связана с т. н. «последними» религиозными проблемами»1.
По мысли Достоевского, признание вины как следствие всеобщей греховности является высшим проявлением человеческой свободы. В этом русский писатель видит и суть христианства. «Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его»2.
Проблема преступления – одна из ведущих в творчестве Достоевского. Она важна не сама по себе. Автор подает ее в комплексе с другими, связывает с проблемами личности, этического выбора, с идеей о переустройстве мира, с нравственными исканиями Бога и т. д.
Нет сомнения в том, что Достоевский данную проблему рассматривает прежде всего как социальную. Социальное преступление обращено, как правило, на социальную среду. Главным мотивом таких преступлений становится социальный аспект: бедность, насилие, социальное неравенство. Преступление формируется как социальный отзыв – естественно и закономерно. На эту тему написана большая научная литература3.
Вместе с тем проблема преступления занимает писателя и как психологическая. Психология преступления связана у Достоевского с философией личности, с проблематикой добра и зла. По мысли автора «Записок из мертвого дома», бывшего каторжника, в природе любого человека зло и склонность к преступлению заложены изначально. Достоевский никогда не мог забыть некоего Газина, выведенного в «Записках», который резал маленьких безвинных детей и наслаждался их предсмертным «голубиным» трепетом. Инстинкты зла, как и инстинкты добра, в одинаковой мере равенства гнездятся в природе человека – таков вывод писателя.
Проблемы сознательного и бессознательного, социального и асоциального (мифологического, архаического и т. д.), рационального и алогического, открытые Достоевским в человеке, получили дальнейшее развитие в трудах Ф. Ницше и 3. Фрейда, А. Жида, К. Юнга, Э. Фромма и других.
Проблему преступления писатель связывает с мировоззренческим аспектом. Это преступление идейное. Анализу такого преступления Достоевский посвящает роман «Преступление и наказание».
Идейное преступление, по мнению писателя, такое же преступление, как и всякое другое, но в то же время наиболее опасное: у преступника всегда есть «уловка», безусловное убеждение в том, что совершаемое им преступление есть благо. Однако Достоевский уверен в том, что никакое благо не может быть куплено ценой преступления. Воспрепятствуют этому законы живой жизни, законы личности, законы совести. Писатель показывает, что человек, преступивший нравственный закон, стоит вне человеческого сообщества.
Мысль Достоевского о человеке (всегда остававшемся для него «тайной», которую надо разгадать) и об обществе, как правило, соотносится с идеей мирового переустройства. Проблема изменения «лика мира сего» тревожила не одного Достоевского. Все социальные теории, начиная с древних времен и кончая нынешними, ставят вопрос о несправедливости миропорядка, а их авторы ищут пути и способы его гармонизации. Во главе угла оказывается спор о человеке. Именно человек становится «камнем преткновения» в его решении.
Достоевский считал, что никакие социальные и философские теории не способны смоделировать образ человека будущего, никакие математические расчеты не в силах приблизить «хрустальный дворец», идеал всечеловеческого счастья, что позитивистские и материалистические теории по сути своей ошибочны, потому что строят свои представления о мире и человеке на основаниях науки, знания, утилитаризма, прагматизма, практического интереса и пользы – на отвлеченном знании и абстракциях. Писатель привлек внимание к коренной черте человека – к своеволию. Закон «самости» противостоит закону «стада», индивидуализм – коллективизму, хотение – разумности, исключение – правилу.
Все позитивистские и материалистические концепции базируются на требовании разумного отношения к действительности, в основе их лежит разум как инструмент, единственно познающий мир. Их рассудочные обоснования этики и нравственного закона Достоевскому кажутся сомнительными. Законы разума, по его мнению, не могут удержать человека в границах нормативного социального поведения. Писатель, по выражению Р. Лаута, «совершенно не принимает этику чистого разума»4. Лаут считает, что «Достоевский говорит о рационалистической или рассудочной этике, в которой разумное познание связано с опытом, и именно с опытом, который становится опытной наукой вследствие переработки эмпирического материала. Для этики в этой связи важное значение имеет критика науки, которая отмечена несовершенством и односторонностью, исходя, к примеру, из усмотрения лишь чувственной, внешней стороны действительности, из одностороннего рассмотрения доступного рассудку только количественного, того, что поддается подсчету или субординации, а также из пренебрежения к духовной сущности человека»5.
Достоевский, несомненно, восстает против выводов естественнонаучного и социального знания. Он говорит о непредсказуемости человека, о том, что человеческая воля может оказаться преградой на пути к регламентируемому обществу. Выступая против Бентама, Спенсера и Маркса, учения которых ему были известны, против их позиции о том, что человеческая воля направляется волей объективной действительности, что она согласуется и определяется ею, что свобода воли человека – миф, что человек – лишь продукт естественнонаучного знания, отражатель исторических, биологических, политэкономических закономерностей, Достоевский защищает право личности быть собой, отвечать за себя, в полной мере нести ответственность перед людьми и Богом. Выразителем позитивистской этики в творчестве Достоевского выступает Иван Карамазов, оценивший совесть как религиозный предрассудок: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю! Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги»6. Эта позиция, по мнению писателя, угрожает антропофагией, развитием преступности в небывалом масштабе.
По мысли писателя, нравственные принципы не следует выводить из области биологии: «Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом случае разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки»7, т. е. ничего не остается, как принять этот вывод, добытый научным путем.
Достоевский опирается на А. Шопенгауэра в том, что эгоистическую волю очень трудно направить и использовать для блага общества. Как известно, Шопенгауэр утверждал, что кантовская максима: человек должен вести себя так, чтобы его поведение могло стать принципом всеобщего законодательства; что такое поведение принесет индивидууму большую пользу – ничего не имеет общего с законами человека и общества. Он критиковал Канта в «Основах морали»: «Если я снимаю условие, согласно которому я как более слабый элемент должен страдать от беззакония, вытекающего из неправедного деяния, я вижу в себе (доверяя моим превосходящим духовным и физическим силам) только всегда активную, а не пассивную единицу при выборе всеобщей максимы; поэтому, предполагая, что нет другого основания морали, кроме кантовского, очень легко могу принять в качестве всеобщей максимы несправедливость и отсутствие любви»8.
У Достоевского к аналогичному выводу приходит Раскольников, возражая Лужину, стороннику прагматического взгляда: «Доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать»9. По убеждению писателя, никогда нельзя добиться отчетливого разграничения того, что подходит обществу, а что индивидууму, поскольку между индивидуумами из-за собственных выгод идет постоянная борьба за власть и обладание, в которой каждый стремится отстоять свою пользу, пренебрегая общественной.
Вот почему Достоевский считает, что рассудок, разум не могут дать нравственные ориентиры, не могут даже выдвинуть нравственные требования, поскольку нравственное познание питается не одним только разумом и внешним опытом. Писатель считает, что существуют источники другого, внутреннего опыта, опыта чувства и сердца. Его он называет опытом «натуры». Вне зависимости от разума чувство способно проникать в самые сложные явления, поскольку в нем заключено высшее знание – знание нравственное. Чувство без «научения» знает нравственную правду. Достоевский поднимает вопрос: откуда берутся это знание, эта уверенность в нравственном чувстве?
Рассуждая об этом в «Кроткой», он приходит к выводу: это чувство правды и меры, нравственное чувство «уже дано самой жизнью» (курсив мой. – Ю. С.)10, т. е. это знание соответствует отношению человека к Богу. По убеждению писателя, «нравственные идеи... вырастают из религиозного чувства»11. Именно здесь осуществляется связь чувства с сознанием, разумом. Если отсутствует этот «контакт», нравственное чувство не получает эмоционального знания о нравственном, оно гибнет и вырождается. По Достоевскому, именно чувство, а не разум направляет и на дурной, и на хороший поступок.
В своем творчестве писатель показывает конфликт разума и натуры, рассудка и сердца. Сам Достоевский выдвигает на первый план этику чувства: следует идти за импульсами чувства, натуры, а не за принципами и максимами разума. Основа нравственного прозрения формируется понятиями чувства.
Основное чувство – совесть. Н. Бердяев называл совесть «органом восприятия Бога»12. По Достоевскому, совесть – регулятор этики. Она дает представление о дурном и хорошем, она указывает путь поведения. Совесть пробуждает нравственную природу человека даже в закоренелом преступнике. «Совесть – это уже раскаяние», – писал Достоевский13. В страданиях, в угрызениях совести содержится наказание за совершенное зло, и это единственное, что способно утихомирить злые страсти.
С понятием совести у Достоевского связано еще одно важное положение. Необходим тот высший нравственный регулятор, который определяет нравственные максимы. Писатель видит его в феномене Иисуса Христа. Не только благодаря голосу совести, но и путем высшего божественного откровения человечество приходит к усвоению своей нравственной идеи.
У Достоевского Иисус Христос воплощает не только религиозную идею, но и идеальную, светлую личность. В нем он видит истину, человек может прикоснуться к «мирам иным»14, к высшему нравственному закону своей верой в идеал, своей ориентацией на нравственный закон.
Если отвергать связь с «мирами иными», то тогда человек – «мир земной» и ему «все позволено»15, он может вести себя по своему усмотрению, для него в этом случае нравственный закон не дан. Место нравственного закона заступает мнимый научный опыт, что всегда ведет к утверждению эгоистической воли ради поддержания и укрепления собственного бытия. Этот закон самоутверждения, по мысли Достоевского, равен самоуничтожению человечества, потому что он проявляется в практической поговорке и философской формуле «Человек человеку волк».
С точки зрения Достоевского, чем больше человек стремится к совершенным помыслам, тем ближе он соприкасается с Богом. Это стремление личности к совершенству писатель понимал как нравственное поведение, как должное поведение. Однако понятие долга у него имеет другой смысл по сравнению с понятием долга у Канта. Достоевский отвергал внешнее понятие долга, для него это было понятием произвола, чужим повелением, повиновением чужой воле. Писатель отмечает: «Всякая непременность... в деле любви похожа будет на мундир, на рубрику, на букву... Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение – отдайте, велит идти работать на всех – идите... обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви, все, что можно, что сами искренно признаете для себя возможным»16. Только свободное проявление воли, добровольная жертва, долг деятельной любви, по Достоевскому, формируют нравственную позицию, верное понимание этической нормы.
В отношении нарушения этой нормы и возникает в философии Достоевского проблема добра и зла. Закон добра основан на законе любви. Иной закон, по мысли писателя, исходит из утверждения «Я». В зависимости от нравственной ориентации «Я» Достоевский определяет ценность идеала.
Вот как определяет Рихард Лаут понятие добра у Достоевского: «1. Добро есть то, что мы любим. Это значит, что все, что принимает любящая душа, является добром. Сияние любви и ее одобрение является признаком доброты. 2. Добро есть то, что согласуется с нашим чистым чувством красоты. Достоевский различает многие ступени прекрасного, среди них и чистую красоту, которая является отражением нравственного бытия.
Это последнее он называет также духовной красотой. Все, что выражает эта красота и воспринимает наша чувствующая душа, овладевая этой красотой, является также и добром, поскольку они связаны между собой тесными узами. 3. Добро есть то, что принимается сердцем, чувствами и совестью. Так как непорочное чувство (совесть, сердце) является надежнейшим показателем нравственного закона, оно четко признает и добро»17.
В философии Достоевского различаются разные ступени нравственного бытия. Например, преступления Раскольникова и Свидригайлова в «Преступлении и наказании» не могут быть поставлены на один уровень: у них разные уровни нравственного бытия. Р. Лаут отмечает, что Достоевский подчеркивает их различие путем разных символических сфер: «огнем и кровью – у Раскольникова и затхлой водой – у Свидригайлова»18. Это, однако, не совсем точная интерпретация. Г. Д. Гачев указывает: «Порфирий Петрович и Раскольников – это вариант русской архетипической пары: от Камень – кесарево начало»19.
Р. Лаут выделяет в творчестве Достоевского четыре ступени зла20. На первую ступень он ставит людей, увлеченных великой страстью (Митю Карамазова и Рогожина). На вторую – всех низких сладострастников, интриганов – тех, чья «воля с растлением чувств угасла»21 (героев-мертвецов из «Бобка»). На третью (он ее делит на верхнюю и нижнюю) поднимаются теоретики, которые идею ставят выше жизни (Раскольников, Иван Карамазов) и в которую веруют, и, наконец, на последней оказываются герои без идеи, кого отличает разумная злоба, холодное спокойствие (Ставрогин)22. Эти четыре ступени, обозначающие уровни зла, конечно же, достаточно схематичны. Более того, на наш взгляд, вторую следует опустить на третью позицию, а третью поставить вслед за первой. В этом случае эти четыре ступени зла смогли бы изобразить четыре ступени преступлений против нравственности: представителей первых двух Достоевский не исключает из числа тех, кто способен к перерождению духовному (Митя Карамазов, Раскольников, Иван Карамазов), а вот последним (Свидригайлову, героям «Бобка» и Ставрогину) не дано воскреснуть или измениться: за смертью они найдут только смерть.
По Достоевскому, зло можно умертвить только стремлением к самосовершенствованию, попыткой обретения этической свободы. Понятие этической свободы тоже неодномерно в творчестве писателя, в его философии. Здесь можно различить разные формы:
-
социальная свобода, которую дают деньги и власть;
-
физическая свобода без денег и власти;
-
свобода внутреннего самоопределения.
Первые две относятся к внешней форме свободы, третья – к внутренней. Путь к подлинной свободе – это путь к самому себе внутреннему, к личности, способной овладеть своими страстями и запросами, подчинить их волей, усмирить себя. Воля к жизни нуждается в идее, приобретает в идее цель. По Достоевскому, чем сильнее воля к жизни, тем более она наполнена Богом. Им определяется духовная жажда. Степенью духовной жажды измеряются нравственные потенции человека. Достоевский записывает: «Да уж одно ношение жажды духовного просвещения есть уже духовное просвещение»23. Писатель убежден в том, что только огромная жажда нравственного бытия мощно движет человека до самой смерти, она способна поднять его и в глубоком падении, спасти и восторжествовать над жаждой материальных и чувственных наслаждений.
Если нравственная жажда приводит к «обновлению» последних преступников, то ложь губит нравственное бытие человека. Ее преодоление на пути к нравственному бытию Достоевский считал самым трудным делом. Ложь обессмысливает бытие, погружает в бездну зла, опутывает, и только один способ ее победить – «узреть» ложь.
Смысл нравственного бытия Достоевский поставил в зависимость, во-первых, от идеи бессмертия, во-вторых, от идеи страдания. Если нет бессмертия, тогда все приходит к гибели, тогда нет опоры, которая могла бы обозначить творение как нечто неизменное и вечное, тогда нет смысла в существовании. Отсутствие бессмертия ставит под вопрос и существование Бога. Вопросы о смысле бытия, о Боге и бессмертии связаны в метафизической философии Достоевского между собой.
Другая идея, ставящая под сомнение смысл нравственного бытия, – это идея страдания. В мире много страданий. Если человечество не перестает страдать на протяжении всей истории, веря в лучшее будущее, которое не наступает, резонно задать вопрос, как Иван Карамазов: «Кто же это так смеется над человеком?»24 Страданию взрослых можно подобрать мотивировки, но как объяснить страдания детей? О страданиях детей писатель сообщает в «Дневнике писателя», разбирая судебные процессы Джунковских и Крониберга, дело Корниловой, рассказывая о смерти бедного мальчика в святочном рассказе «Мальчик у Христа на елке».
В проблеме самоубийства писатель увидел теоретический аспект, психологические «надрывы», философские обоснования. По мысли Достоевского, самоубийства – признак общественной болезни. Этот феномен проявляется в эпохи хаоса, разброда, в моменты, когда «помутились нравственные источники жизни»25. Сообщениями о самоубийствах полон «Дневник писателя». Самоубийцы: Кириллов в «Бесах», Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Ставрогин в «Бесах», Смердяков в «Братьях Карамазовых» и т. д. Все они совершают преступления не только против человечества, самих себя, но и против Бога. Что же становится причиной самоубийства?
Один из мотивов «идейного» самоубийства («Бесы», «Приговор» в «Дневнике писателя») – это мотив человекобога: создание нового мира без страха смерти. У этого мотива есть еще одна сторона: собственная жизнь рассматривается как протест против бессмысленного мира. Жизненный опыт показывает, что человек по законам природы должен ей подчиняться. Он не может требовать от нее отчета и не может понять смысл жизни: природа не отвечает на вопросы человека.
В этом случае самоубийца из «Приговора» считает: «Так как я... при таком порядке и принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным, – то, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, – вместе со мной к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого»26. Подобная идея высказывается и Ипполитом в «Идиоте»: «Природа до такой степени ограничила мою деятельность, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я могу начать и окончить по собственной воле моей. ...Протест иногда не малое дело»27.
Решившись, самоубийца не может быть сдержан моральными, общепринятыми правилами, поэтому в самоубийстве лежит мотив не только преступления против самого себя, но и преступления перед обществом. Вот рассуждения Ставрогина в «Бесах»: «Если бы сделать злодейство, или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый... и смешной, так что запомнят люди на тысячу лет, и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар в висок, и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет»28.
Причину самоубийства Достоевский видит в неверии, в отчаянии, в отказе от жизни, не указывающей смысла, в бунте против природы и ее своеволия. Против предопределенного порядка поднимается самоубийца, заявляя о своем свободном выборе своей свободной воле.
Достоевский ставит вопрос: не находится ли человечество на пороге самоуничтожения? Нет ли во всех этих «надрывах» и головных «изломах» стремления человечества отказаться от вселенной, лишенной всякого смысла, порвать с ней связь, разрушить «какую-то древнюю иррациональную привычку» коммуникации души и вселенной?
Выход из этого тупика – в воле к жизни, в неясных импульсах, которые идут от сердца, а не от сверхсознательных представлений, в вере. Достоевский показывает психологический перелом в Ипполите, в Раскольникове, в смешном человеке, которые были захвачены идеей самоубийства, в момент власти жизни над их душой, в момент прозрения в новую идею, в момент родившейся, еще неясной, но ощутимой веры.
Достоевский не принимал концепции стоиков, их философии самоубийства «как разумного выхода из жизни». Он считал, что воля к жизни не изолирована в человеке, она существует в связи со всеобщим бытием. И если есть бессмертие, души самоубийц пребывают в отчаянии, так как у них нет времени для раскаяния и очищения, вот почему «несчастнее сих не может быть никого»29.
Рядом с формой преступления в виде самоубийств в творчестве Достоевского рассматривается форма убийства как проявление власти и идеологии. Здесь насилие над собой оборачивается насилием над другим. Воля к власти есть стремление к господству над человеком. Из различения ценностей происходит разделение людей на господ и рабов. Если согласиться с наличием сверхчеловеческой воли, то разделение пройдет по другому принципу: на сверхчеловеков и «стадо». Эти идеи Достоевский развивал в «Преступлении и наказании», в «Бесах», в «Братьях Карамазовых».
Раскольников стремится освободиться от нравственного закона, с помощью насилия утвердить власть над миром: «Я теперь знаю, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними (т. е. над людьми, «стадом») и властен!»30. Понятие силы здесь не биологическое, дано не как свойство расы или природы, а исключительно природная сила воли и рассудка. Это качество выделяет тип таких людей в разряд «необыкновенных», для них другие существуют для того, чтобы стать «материалом для истории»31.
Преступление Раскольникова формируется прежде всего его собственным горьким опытом в борьбе с жизнью, утесняющей его личную свободу, в борьбе со средой, коренится в отсутствии веры в разные начала бытия, оправдывается следствием житейских неудач, равнодушием и ненавистью к миру, нежеланием оказаться «насекомым», которое в своей власти используют другие, сильнейшие.
Достоевский выявил в притязаниях героя сущностный, фундаментальный уровень, писатель отбросил псевдонравственную маску и открыл глубинный и истинный смысл притязаний сверхчеловека. Для сверхчеловека вообще нет нравственного закона: «Вот они снуют по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот!»32 Кроме власти, нет другого пробуждающего волю принципа. Подлинная жизнь – это борьба между людьми мощных волений. Не признающий этого – идиот. Сверхчеловеку не нужны ни сострадание, ни нравственные раздумья. Власть дана смелым взять ее: «Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот всех и правее!»33 Исходя из собственной воли сверхчеловека, а не из нравственного закона, рождается право на преступление. Таким образом достигается освобождение от пут метафизической свободы добра и зла, от вины и покаяния.
Достоевский считает, что сверхчеловек начинает с идеи свободы и заканчивает ее насилием и порабощением, деспотизмом. Эту мысль он вкладывает в теорию Шигалева в «Бесах»: вместо обещанного рая взорвать «на воздух» девять десятых человечества и оставить «только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому»34.
Склонность к преступлению, к греху и страданию в человеке, по Достоевскому, соседствует нередко с неосознанным желанием стать лучше. Писатель подчеркивает, что следует судить народ не по тому, что он есть, а по тому, чем он желал бы стать35. Например, Влас, образ которого почерпнут Достоевским из творчества Некрасова, становится образцом такой этики. Он доведен до «последнего момента», до сознательного преступления, но в нем проявляется и связь с народной правдой, народной верой (потребностью страдания). Идея жизни «не по телу, а по духу» (Послания Св. апостола Павла), забота о спасении души потребовали от Власа отречения от прежней преступной жизни и заставили его пойти «по миру», в поисках, страдания и «примирения с самим собой»: в одно мгновенье «вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу... – все это вырвалось вдруг в одно мгновенье из его сердца»36.
Необходимо отметить, что Достоевский не называет Власа преступником, но – «грешником», «безобразником», осмелившимся на одно мгновение «неслыханной дерзости». Нигилисты из народа отражают общий социальный момент, картину социальной болезни, но у них всегда в запасе естественный принцип, естественная связь с нравственно-этической нормой, нравственным бытием, естественная потребность смирения перед высшей волей и страдания, очищения. У Власов, связанных с глубинами народной христианской этики, несмотря ни на какие их уклонения от нее, всегда есть возможность очнуться. Эта этическая доминанта народного духа позволяет Достоевскому надеяться, что в последний момент вся ложь «...выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам... Себя и нас спасет...»37
Таким образом, по Достоевскому, как правило, забвение нравственного бытия, отрицание его, ощущение его бессмысленности, отстояние от него на мгновенье, попрание своеволием всегда способствуют преступлению, наталкивают на преступление. Причиной обычно является разрушение старой нравственно-этической нормы, в столкновении с которой гибнут человек и человечество, экспериментируя свой собственный путь к счастью и все глубже запутываясь в противоречиях. Выход из складывающегося тупика Достоевский видел в обращении, прежде всего, к нравственному бытию, которое воплощалось для него идеалом Иисуса Христа. Он считал христианскую идею истиной в последней инстанции: «если истина вне Христа, то я выбираю Христа, а не истину»38. Законы любви, добра и красоты сопряжены для Достоевского в образе Христа и его идее. Он видел фундаментальную идею и в страдании, в христианском смирении принять и нести крест свой, которая также заявлена в этосе Христа. Страдание – своеобразная форма чистилища в православной религии. Через страдание любому грешнику и преступнику открывается новая этика, истинное нравственное бытие. Писатель-гуманист, столь глубоко исследовавший несовершенную и зачастую преступную природу человека, верил, что «восстание из мертвых», чудо преображения возможно для каждого и для самого последнего. Своим анализом он указывал на социальные болезни и возможные пути их излечения. Достоевский не щадил ни высшее сословие, запутавшееся в безверии, ни крестьянскую и мещанскую массу, в нравственном безобразии и преступлении утратившую связь с народными основаниями жизни.
Достоевский указал на болезни своего времени, столь последовательно и разнообразно проявившиеся в XX веке. Достоевский-гуманист заставил размышлять об истинной свободе личности, о способах преодоления общественного несовершенства, о путях поисков глубинных причин несостоятельности эмансипированного мира. Он предсказал, размышляя о феномене преступления, о его социальной и нравственной природе, многие катаклизмы и социальные коллизии XX века, и это поможет глубже разобраться в духовных корнях разноликой нынешней России. Его тревога за судьбу человечества обеспечила тот накал страстей, которым пронизано все его творчество. Вот почему анализ проблемы свободы в мировоззрении великого гуманиста XIX века является особенно актуальным в условиях сегодняшнего морального одичания.
1 См.: Степун Ф. А. Дух, лицо и стиль русской культуры // Вопросы философии. 1997. № 1.
2 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 19. С. 166.
3 Щенников Г. К. Проблема правосудия в «Дневнике писателя» и романе «Братья Карамазовы» // Он же. Художественное мышление Достоевского. Свердловск, 1978; Захарова Т. В. Дневник писателя и его место в творчестве Достоевского 1870-х годов. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1975; Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978; Кузнецов Э. В. Философия права в России. М., 1989; Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. Л., 1964; Карякин Ю. Ф. Самообман Раскольникова. М., 1975; Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского // Три шедевра русской классики. М., 1971; Карлова Т. С. Нравственно-правовые проблемы в русской журналистике 60–70-х гг. XIX в. Творчество Достоевского. Казань, 1981: Социология преступности. М., 1966, и т. д.
4 Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М., 1996. С, 152.
5 Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М., 1996. С. 152.
6 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 15. С. 87.
7 Достоевский Ф. М Записки из подполья. Т. 5. С. 105.
8 Шопенгауэр А. Основы морали. М., 1992. С. 167.
9 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Т. 6. С. 11.
10 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877. Т. 25. С. 204.
11 Достоевский Ф. М. Из записной тетради 1880–1881 гг. Т. 27. С. 85.
12 Бердяев Н. О значении человека. М., 1993. С. 150.
13 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 15. С. 166.
14 Достоевский Ф. М. Из записной тетради 1880–1881 гг.
15 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 15.
16 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877. Т. 25. С. 61.
17 Лаут Р. Указ. соч. С. 167.
18 Там же. С. 175.
19 Гачев Г. Д. Космос Достоевского // Проблемы поэтики и истории литературы. К 75-летию М. М. Бахтина. Саранск, 1973. С. 118.
20 Лаут Р. Указ. соч. С, 175.
21 Там же. С. 176.
22 Лаут Р. Указ. соч. С. 175–177.
23 Достоевский Ф. М. Записки литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880–1881 гг. Т. 27. С. 56.
24 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 14. С. 124.
25 Достоевский Ф. М. Идиот. Т. 8.
26 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876. Т. 23. С. 148.
27 Достоевский Ф. М. Идиот. Т. 8. С. 344.
28 Достоевский Ф. М. Бесы. Т. 10. С. 187.
29 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 14. С. 293.
30 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Т. 6. С. 321.
31 Там же. С. 202.
32 Там же. С. 401.
33 Там же. С. 321.
34 Достоевский Ф. М. Бесы. Т. 10. С. 313.
35 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Т. 22. С. 43.
36 Там же. Т. 21. С. 48.
37 Там же. Т. 21. С. 41.
38 Бурсов Б. Личность Достоевского. М., 1971. С. 192.
Введение
достоевский писатель произведение
Драгоценные черты, присущие классической русской литературе XIX века и обусловленные ее ролью средоточия духовной жизни народа, - напряженное искание добра и общественной правды, насыщенность пытливой, беспокойной мыслью, глубокий критицизм, соединение удивительной отзывчивости на трудные, больные вопросы и противоречия современности с обращенностью к устойчивым, постоянным «вечным» темам бытия России и всего человечества. Черты эти получили наиболее глубокое и яркое выражение в произведениях двух великих русских писателей второй половины XIX в. - Федора Михайловича Достоевского и Льва Николаевича Толстого. Творения каждого из них приобрели мировое значение. Обе они не только оказали широчайшее влияние на литературу и всю духовную жизнь XX в., но во многом продолжают и сегодня оставаться нашими современниками, необъятно раздвинув границы искусства слова, углубив, обновив и обогатив его возможности.
Творчество Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) носит прежде всего философско-этический характер. В его произведениях момент нравственного выбора является импульсом внутреннего мира человека и его духа. Причем произведения Достоевского настолько глубоки по мировоззренческим идеям и нравственным проблемам, что последние часто не вписываются в рамки литературно-художественного жанра. Постоянная и вечная дилемма добра и зла, Христа и антихриста, Бога и дьявола - эта дилемма, от которой человеку никуда не уйти и никуда не спрятаться, даже в самых потаенных уголках своего внутреннего «Я».
Разгром кружка социалиста-утописта Петрашевского, членом которого Достоевский был, арест, приговор и каторга, рост индивидуализма и аморализма в пореформенной России и безотрадные результаты европейских революций поселили в Достоевском неверие в социальные перевороты, усилили нравственный протест против действительности.
Целью настоящей работы является исследование проблемы человека в творчестве Ф.М. Достоевского.
1.Гуманизм
Основными произведениями, в которых нашли отражение философские взгляды Достоевского, являются «Записки из подполья» (1864), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871-72), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879-80).
Г.М. Фридлендер пишет: «Глубокое сочувствие человеческому страданию, в каких бы сложных и противоречивых формах оно ни проявлялось, интерес и внимание ко всем униженным и отринутым «париям» дворянско-буржуазного мира - талантливому человеку, роковым образом заблудившемуся в путанице своих собственных идей и представлений, падшей женщине, ребенку - сделали Достоевского одним из величайших писателей-гуманистов мира».
Развивая близкую славянофильству теорию «почвенничества», Достоевский отводил русскому народу особую роль в гуманистическом совершенствовании человечества. Он сосредоточивается на стремлении осуществить идеал «положительно-прекрасного» человека, ищет его художественное воплощение. В разработанной еще французскими материалистами теории «влияния среды» Достоевского не удовлетворяет снятие моральной ответственности с человека, объявленного продуктом социальных условий («фортепьянной клавишей», по образному выражению одного из героев Достоевского). Взаимосвязь «обстоятельств» и нравственности не представляется ему всеобщим законом.
Гуманистическим идеалом человеческой личности для Достоевского был Христос. Именно в нем соединились для него добро, истина и красота. В то же время эпоха, в которую жил художник, активно разрушала этико-религиозный идеал Христа, и Достоевский вынужден был противостоять этому воздействию, которое не могло не порождать у него сомнений (писатель даже допускал, что Христос может находиться вне истины).
Достоевский определил как главную, определяющую черту своего гуманизма стремление «найти человека в человеке». Найти «человека в человеке» значило в понимании Достоевского, как он многократно разъяснял в полемике с вульгарными материалистами и позитивистами той эпохи, показать, что человек не мертвый механический «штифтик», «фортепьянная клавиша», управляемая движением чужой руки (и шире - любых посторонних, внешних сил), но что в нем самом заложен источник внутреннего самодвижения, жизни, различения добра и зла. А потому человек, по мысли Достоевского, в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах всегда в конечном счете сам отвечает за свои поступки. Никакое влияние внешней среды не может служить оправданием злой воли преступника. Любое преступление неизбежно заключает в себе нравственное наказание, как об этом свидетельствует судьба Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова, мужа-убийцы в повести «Кроткая» и многих других трагических героев писателя.
«Одним из первых Достоевский верно почувствовал, что восстание против старой, буржуазной морали посредством простого ее выворачивания наизнанку не ведет и не может привести ни к чему хорошему». Лозунги «убей», «укради», «всё дозволено» могут быть субъективно, в устах тех, кто их проповедует, направлены против лицемерия буржуазного общества и буржуазной морали, ибо, провозглашая в теории: «не убий», «не укради», несовершенный мир на практике возводит убийство и грабеж в повседневный, «нормальный» закон общественного бытия.
Корни добра и зла уходят, по мнению Достоевского, не столько в социальное устройство, сколько в человеческую природу и глубже - в мироздание. «Человек для Достоевского - высшая ценность». Но у Достоевского это не абстрактный, рационалистический гуманизм, а любовь земная, гуманизм, обращенный к реальным людям, пусть это даже «униженные и оскорбленные» «бедные люди», герои «мертвого дома» и т.д. Хотя гуманизм Достоевского не следует понимать как беспредельную терпимость ко всякому злу и абсолютное всепрощение. Там, где зло переходит в беспредел, оно должно быть адекватным образом наказано, иначе добро само переходит в свою противоположность. Даже Алеша Карамазов на вопрос брата Ивана, что сделать с генералом, который затравил собаками на глазах матери ее ребенка, - «расстрелять?», отвечает: «Расстрелять!».
Важно подчеркнуть, что для Достоевского главная забота - это прежде всего спасение самого человека и забота о нем. Не случайно при беседе Ивана и Алеши Карамазовых Иван в заключение своей длинной философской тирады о Боге, мире и человеке говорит Алеше: «Не о Боге тебе нужно было, а лишь нужно было узнать, чем живет твой любимый тобою брат». И в этом - высший пафос гуманизма Достоевского. «Ведя своего человека к Богочеловеку и тем самым заботясь о человеке, Достоевский резко отличается от Ницше, который проповедует идею человекобога, т.е. ставит человека на место Бога». В этом суть его идеи сверхчеловека. Человек рассматривается тут лишь как средство для сверхчеловека.
Одна из главных проблем, которая постоянно мучает Достоевского, - можно ли примирить Бога и тот мир, который им создан? Можно ли оправдать мир и действия людей, даже во имя светлого будущего, если оно будет построено на слезинке хотя бы одного невинного ребенка. Ответ его тут однозначен - «никакая высокая цель, никакая будущая социальная гармония не может оправдать насилия и страдания невинного дитя». Человек ни в коем случае не может быть средством для других людей, даже их самых благих планов и замыслов. Устами Ивана Карамазова Достоевский говорит, что «принимаю Бога прямо и просто», но «мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять».
И ничто не может оправдать страдания и слезинку хотя бы единого невинного дитя.
. О трагической противоречивости человека
Достоевский - мыслитель экзистенциальный. Наиболее важной и определяющей темой его философии является проблемачеловека, его судьба и смысл жизни. Но основное для него - это не физическое существование человека, и даже не те социальные коллизии, которые с ним связаны, а внутренний мир Человека, диалектика его идей, которые и составляют внутреннюю сущность его героев: Раскольникова, Ставрогина, Карамазовых и т.д. Человек - это загадка, он весь соткан из противоречий, главным из которых, в конце концов, является противоречие добра и зла. Поэтому человек для Достоевского - это самое дорогое существо, хотя, может быть, и самое страшное и опасное. Два начала: божественное и дьявольское изначально уживаются в человеке и борются между собой.
В созданном в годы заграничных скитаний романе «Идиот» Достоевский сделал попытку, соревнуясь с другими великими романистами, создать образ «положительно прекрасного» человека. Герой романа - человек исключительного душевного бескорыстия, внутренней красоты и гуманности. Несмотря на то, что князь Мышкин по рождению принадлежит к старинному аристократическому роду, он чужд предрассудков своей среды, детски чист и наивен. К каждому человеку, с которым его сталкивает судьба, князь готов отнестись по-братски, готов душевно сочувствовать ему и разделить его страдания. Знакомые Мышкину с детства боль и чувство отверженности не ожесточили его, - наоборот, они породили в его душе особую, горячую любовь ко всему живому и страдающему. При свойственном ему бескорыстии и нравственной чистоте, роднящих его с Дон-Кихотом Сервантеса и пушкинским «рыцарем бедным», «князь-Христос» (как автор называл своего любимого героя в черновиках романа) не случайно повторяет страдальческий путь евангельского Христа, Дон-Кихота, пушкинского «рыцаря бедного». И причина этого не только в том, что, окруженный реальными, земными людьми с их разрушительными страстями, князь невольно оказывается захваченным круговоротом этих страстей.
Совершенно очевидно присутствие и трагикомического элемента в обрисовке князя Мышкина, трагизм которого постоянно подсвечивается и усиливается комизмом ситуаций, в которые попадает герой, а также отсутствием у него «чувства меры и жеста». Да и что может быть нелепее и трагичнее фигуры Христа (ставшего прототипом Мышкина) в обстановке прагматичного буржуазного Петербурга и капитализирующейся России? «Истоки безысходно трагической судьбы Мышкина, кончающего безумием, - не только в беспорядке и нескладице окружающего его мира, но и в самом князе». Ибо так же, как человечество не может жить без душевной красоты и гармонии, оно (и это сознает автор «Идиота») не может жить без борьбы, силы и страсти. Вот почему рядом с дисгармоническими, страдающими, ищущими и борющимися натурами Мышкин оказывается в критический момент своей жизни и жизни окружающих его близких людей беспомощным.
К числу величайших творений Достоевского, оказавших громадное влияние на последующую мировую литературу, принадлежит роман «Преступление и наказание». Действие романа «Преступление и наказание» разворачивается не на площадях с фонтанами и дворцами и не на Невском проспекте, который был для современников своего рода символом достатка, положения в обществе, пышности и великолепия. Петербург Достоевского - это отвратительные трущобы, грязные распивочные и дома терпимости, узкие улочки и мрачные закоулки, тесные дворы-колодцы и темные задворки. Здесь душно и нечем дышать от вони и грязи; на каждом углу попадаются пьяные, оборванцы, продажные женщины. В этом городе постоянно происходят трагедии: с моста на глазах у Раскольникова пьяная женщина бросается в воду и тонет, под колесами щегольской барской коляски гибнет Мармеладов, на проспекте перед каланчой кончает жизнь самоубийством Свидригайлов, на мостовой истекает кровью Катерина Ивановна…
Герой романа - студент-разночинец Раскольников - исключен по бедности из университета. Он влачит свое существование в крошечной каморке, больше похожей на «гроб», или «шкаф», где «вот-вот стукнешься головой о потолок». Неудивительно, что здесь он ощущает себя задавленным, забитым и больным, «тварью дрожащей». Вместе с тем, Раскольников - человек бесстрашной, острой мысли, огромной внутренней прямоты и честности,- не терпит никакой лжи и фальши, а собственная его нищета широко открыла его ум и сердце страданиям миллионов. Не желая мириться с нравственными устоями того мира, где богатый и сильный безнаказанно господствуют над слабым и угнетенным и где тысячи здоровых молодых жизней гибнут, задавленные нищетой, Раскольников убивает жадную, отталкивающую старуху-ростовщицу. Ему кажется, что этим убийством он бросает символический вызов всей той рабской морали, которой люди подчинялись испокон века, - морали, утверждающей, что человек всего лишь бессильная вошь.
В самом воздухе Петербурга словно растворена какая-то губительная и нездоровая страсть. Атмосфера безысходности, уныния и отчаяния, царящая здесь, обретает зловещие черты в воспаленном мозгу Раскольникова, его преследуют образы насилия и убийства. Он - типичное порождение Петербурга, он, как губка, впитывает ядовитые испарения смерти и тления, и в душе его происходит раскол: в то время как его мозг вынашивает идею убийства, сердце переполняет боль за страдания людей.
Раскольников, не задумываясь, отдает последнюю копейку попавшим в беду Катерине Ивановне и Соне, пытается помочь матери и сестре, не остается безучастным к незнакомой пьяной проститутке на улице. Но тем не менее раскол в его душе слишком глубок, и он переступает черту, отделяющую его от прочих людей ради того, чтобы «сделать первый шаг» во имя «всеобщего счастья». Раскольников, возомнив себя сверхчеловеком, становится убийцей. Жажда власти, желание добиться великих целей любыми средствами приводят к трагедии. Раскольникову кажется невозможным сказать «новое слово» без преступления: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» Он жаждет сыграть главную роль в этом мире, то есть, по сути, встать на место Верховного Судьи - Бога.
Но мало того, что одно убийство влечет за собой другое и что один и тот же топор разит правого и виноватого. Убийство ростовщицы обнаруживает, что в самом Раскольникове (хотя он не отдавал себе в этом отчет) скрывалась глубоко запрятанная самолюбивая, гордая мечта о господстве над «тварью дрожащей» и над «всем человеческим муравейником». Мечтатель, гордо задумавший своим примером помочь другим людям, оказывается потенциальным Наполеоном, сжигаемым тайным честолюбием, несущим угрозу человечеству.
Таким образом, круг размышлений и действий Раскольникова трагически замкнулся. И автор вынуждает Раскольникова отказаться от индивидуалистического бунта, мучительно пережить крушение своих наполеоновских мечтаний, чтобы, отказавшись от них, «подойти к порогу новой жизни, которая объединила бы его с другими страдающими и угнетенными». Зерном обретения нового существования для Раскольникова становится его любовь к другому человеку - такой же «парии общества», как он, - Соне Мармеладовой.
Итак, по убеждению Достоевского, человек способен вырваться из детерминированной цепи и свободно определить свою нравственную позицию на основе верного различения добра и зла. Но Достоевский осознает двойственность красоты и для различения в ней добра и зла уповает только на совесть, обращенную к личностному идеалу, который воплощен в образе Христа.
3. Трудности свободы
Толкование добра и зла, предлагаемое теорией «разумного эгоизма», не удовлетворяет Достоевского. Он отвергает разум в качестве основания нравственности по той причине, что доказательность и убедительность, к которым апеллирует разум, не привлекают, а принуждают, приневоливают к определенному выводу необходимостью логики, упраздняя участие свободной воли в нравственном акте. Человеческой же природе, считает Достоевский, свойственно стремление к «самостоятельному хотению», к свободе выбора.
Важный аспект рассмотрения свободы у Достоевского касается того, что свобода составляет сущность человека и он не может отказаться от нее, если хочет остаться человеком, а не быть «штифтиком». Поэтому он и не хочет грядущей социальной гармонии и радости жить в «счастливом муравейнике», если это связано с отрицанием свободы. Подлинная и высшая сущность человека и его ценность заключена в его свободе, в жажде и возможности своего собственного, индивидуального самоутверждения, «по своей глупой воле жить». Но природа человека такова, что «отпущенный на свободу», он тотчас начинает бунтовать против существующего порядка. «Именно тут начинает проявляться его скрытый индивидуализм и обнаруживаться все неприглядные стороны его «подполья», раскрывается противоречивость его природы и самой свободы».
Вместе с тем Достоевский прекрасно раскрывает диалектику свободы и ответственности личности. Подлинная свобода - это высочайшая ответственность человека за свои поступки, это очень тяжелое бремя и даже страдание. Поэтому люди, получив свободу, спешат поскорее от нее избавиться. «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться». Поэтому-то люди и радуются, когда с их сердец снимают свободу и ведут их «как стадо». Эта жесткая взаимосвязь свободы и ответственности, существующая для каждой подлинной личности, не сулит человеку счастья. Напротив, свобода и счастье для человека, если он является действительно человеком, оказываются практически несовместимыми. В этой связи Достоевский говорит о «таком страшном бремени, как свобода выбора». Поэтому всегда существует альтернатива: или быть «счастливым младенцем», но расстаться со свободой, или взять на себя бремя свободы и стать «несчастным страдальцем».
Свобода, по Достоевскому, аристократична, она не для каждого, она для сильных духом, способных стать страдальцами. Поэтому мотив страдания также находится в центре творчества Достоевского. Но этим самым он не унижает человека, а призывает его возвыситься до Богочеловека, сделать свой сознательный выбор между добром и злом. По пути свободы можно идти как к добру, так и злу. Чтобы человек не превратился в зверя, ему нужен Бог, и он может идти к добру только через страдание. При этом человеком движет или разрушительное своеволие, утверждающее свою свободу любыми способами, или чувство «восторга» перед красотой.
Бог-личность, по Достоевскому, один только и может искупить человеческие страдания и удовлетворить человеческую потребность в совершенстве, спасении и благе как всего мира, так и каждого отдельного человека, давая смысл его существованию и бессмертие. При этом Достоевский признает только свободную любовь человека к Богу, не приневоленную страхом и не порабощенную чудом. Принимая религиозное понимание зла, Достоевский тем не менее, как тонкий наблюдатель, указывает его конкретные проявления в современной ему жизни. Это - индивидуализм, своеволие, т.е. утверждение своего «я» вне зависимости от более высоких нравственных критериев, приводящее иногда к самоуничтожению. Это - деспотизм, насилие над чужой волей, какими бы целями (удовлетворение личного самолюбия или достижение общечеловеческого счастья) носители этих качеств ни руководствовались. Это - развращенность и жестокость.
Неограниченная свобода, к которой стремится «подпольный человек», ведет к своеволию, разрушению, этическому анархизму. Тем самым она переходит в свою противоположность, приводит человека к пороку и гибели. Это путь недостойный человека, это путь человекобожества, который мнит, что ему «все дозволено». Это путь отрицания Бога и превращения человека в Бога. Важнейшее положение о человеке у Достоевского заключается именно в том, что тот, кто отрицает Бога, становится на путь человекобожества, как это делает Кириллов из его «Бесов». По Достоевскому, истинный путь свободы - это путь, ведущий к Богочеловеку, путь следования Богу.
Итак, Бог для Достоевского является основой, субстанцией и гарантией нравственности. Человек должен пройти испытание бременем свободы, через все страдания и муки, связанные с ней, чтобы сделаться человеком.
Достоевским высказана мысль о том, в основе развития какого-либо общества лежит только один-единственный закон, который дан природой только ему: «Народы, - говорит он устами персонажа романа «Бесы» нигилиста Шатова, - слагаются силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти... Цель всякого движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него, как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или многих народов был один общий Бог, но всегда у каждого был особый». Великий писатель подчеркивал исключительность каждого народа, что у каждого народа имеются свои представления о правде и лжи, о добре и зле. И «…если великий народ не верует, что в нем одна истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один и признан всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже первостепенною, а непременно и исключительно первою. Кто теряет веру, уже не народ...».
В целом, примирить Бога и мир, им созданный, оказалось Достоевскому не под силу. И это, конечно, не случайно. И здесь мы сталкиваемся действительно с фундаментальным и неразрешимым в рамках религиозной мысли противоречием. С одной стороны, Бог есть всемогущий творец, идеал и совершенство, а с другой - его творения оказываются несовершенными и потому порочащими своего создателя. Из этого противоречия может быть сделано несколько выводов: или Бог не всемогущ, или он несовершенен, или мы сами неадекватно воспринимаем и осознаем этот мир.
Заключение
Итак, попытки Достоевского связать гуманистический общественный идеал с личностным совершенствованием противоречивы. Его этика зиждется не на познании законов действительности и не на ориентировании нравственного суждения на них, а на воле к утверждению абсолюта. Достоевский предпочитает «оставаться со Христом, нежели с истиной».
Достоевский смотрел на будущее человечества и на будущее России с великой надеждой, страстно стремясь отыскать пути, ведущие к грядущей «мировой гармонии», к братству людей и народов. Пафос неприятия зла и уродства буржуазной цивилизации, утверждение постоянного искания, нравственной непримиримости к злу и в жизни отдельного человека и в жизни общества в целом неотделимы от облика Достоевского-художника и мыслителя-гуманиста. Великие творения Достоевского - при всех свойственных им острых внутренних противоречиях - принадлежат настоящему и будущему.
Устремленность мысли Достоевского к реальной жизни, страстная любовь к людям, настойчивое стремление великого русского романиста отыскать в «хаосе» жизненных явлений своей переходной эпохи «руководящую нить», чтобы «пророчески» угадать пути в движении России и всего человечества навстречу нравственному и эстетическому идеалу добра и социальной справедливости, сообщили его художественным исканиям ту требовательность, широту и величественную масштабность, которые позволили ему стать одним из величайших художников русской и мировой литературы, правдиво и бесстрашно запечатлевшим трагический опыт поисков и блужданий человеческого ума, страдания миллионов «униженных и оскорбленных» в мире социального неравенства, вражды и нравственного разъединения людей.
Список использованной литературы
Бузина Т.В. Достоевский. Динамика судьбы и свободы. - М.: РГГУ, 2011. - 352 с.
Булгакова И.Я. Проблемы свободы выбора добра и зла в русской религиозной философии конца Х1Х - начала ХХ века // Социально-политический журнал. - 1998. - №5. - С. 70-81.
Виноградов И.И. По живому следу: духовные искания русской классики. Литературно-критические статьи. - М.: Сов. писатель, 1987. - 380 с.
Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 12 тт. / Под общ. ред. Г.М. Фридлендера и М.Б. Храпченко. - М.: Правда, 1982-1984.
Климова С.М. Страдание у Достоевского: сознание и жизнь // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. - 2008. - №7. - С. 186-197.
Литературоведческий словарь (электронная версия) // #"justify">.Ноговицын О. Свобода и зло в поэтике Ф.М. Достоевского // Вопросы культурологии. - 2007. - №10. - С. 59-62.
Ситникова Ю.В. Ф.М. Достоевский о свободе: подходит ли либерализм для России? // Личность. Культура. Общество. - 2009. - Т. 11. - №3. - С. 501-509.
Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. - М.: Художественная литература, 1972. - 548 с.
Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. ? М., 1981 // #"justify">.Харабет К.В. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского в «разрезе» девиантологии // Российская юстиция. - 2009. - №5. - С. 20-29.
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.